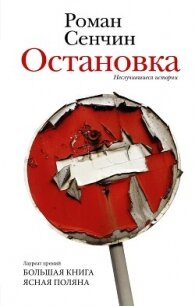Поминки - Сенчин Роман Валерьевич (электронные книги без регистрации txt, fb2) 📗
Ох, разве у родителей зарастал? Вот сейчас – зарос.
Трава по пояс. Как в песне.
Усмехаюсь такой аналогии, замечаю, что усмехнулся. Становится неловко, точно я играю. Наверно, играю, но ничего не могу с собой поделать – часто у меня такое чувство, что за мной наблюдают. И надо играть.
В хороших туфлях, чистых джинсах шагаю в траву, начинаю ее выдергивать.
Не очень-то поддается. Крепкая, с толстыми стеблями, совсем не огородная. Да и не трава это в привычном смысле – не длинные и плоские листья у нее, как, например, у пырея, осоки, а небольшие, напоминающие древесные; скорее, не стебли, а – если дать волю дорасти до зрелости – настоящие стволья. Марь, подсвекольник, желтушник, осот… Их десятки видов, таких сорняков. По ним, как лиана, ползет вьюн, под ними мхом стелется мокрец.
Травяной лес какой-то.
Конечно, любой мало-мальски знакомый с ботаникой может фыркнуть от сравнения с лесом, но пусть сам посмотрит… Недавно я прочитал, что есть регионы, где наблюдается гигантизм трав – они способны вырастать выше двух метров. Нашел карту этих регионов, и один из них как раз здесь – в отрогах Западного Саяна…
А одуванчиков не вижу. Хорошо. В мае я их выкорчевывал лопатой, носил в ведрах на край участка.
Да, одной рукой травины не одолеть. Берусь за стебель обеими. Дергаю… И корни мощные у таких трав, похожие на корни деревьев.
Выдергиваю одну, другую, третью. Оббиваю землю с корней… Нет, так я все двенадцать дней потрачу. На дерганье этой мари и ей подобного сора. Хотя ведь нет, кажется, ни одной по-настоящему сорной травы, каждая чем-нибудь полезна. Одна от головной боли, из другой салат полезный, третья давление понижает, четвертая снимает изжогу…
Впрочем, об этом я уже писал. И не раз. Но как только начинаю бороться с сорняками, злясь на них, вспоминаю. Что полезны. Они ведь не виноваты, что человек выбрал и окультурил другие травы.
Прошлым летом мы купили газонокосилку. Мама настояла. «Не сами, без тебя если, так кого из соседей будем просить, – сказала. – У всех есть, и мы можем позволить».
Четыре года назад мама взялась за обустройство усадьбы. И до этого они с отцом много делали, но в основном старались защитить от разрушения, а тут – строительство, дорогие покупки.
Во-первых, баня.
С девяносто третьего, как переехали сюда, и родители, и сестра моя, и я, и мои дочки, жены мылись в старой, оставшейся от прежних хозяев – крошечной, без предбанника, с железной печкой. Разговоры о том, что надо новую, сначала заводились, а потом перестали. Сестра умерла, я бывал по месяцу летом и по неделе, и то изредка, весной или осенью, часто без семьи. В общем, и этой сполоснуться как-то хватало.
Как моются в ней родители зимой, как вообще переживают зимы – не думал. Вернее, старался не думать.
А весной восемнадцатого мама вдруг решила твердо – надо строить. Отправила меня в соседнее село, в Знаменку, где есть лесопилки, торгуют досками, брусом, и я заказал материал; там же мне порекомендовали строительную бригаду. И через год появилась просторная – парилка, мойка, предбанник размером с приличную комнату – баня. Теперь я и моя нынешняя жена, приезжая сюда, живем в ней, а не во времянке, которая, кажется, старее избы.
(В нашей семье времянку называли биндюжкой. Я долго, так сказать, сторонился этого слова, не вставлял его в свои тексты, считал несибирским, что ли. А потом заглянул в словари – да нет, вполне себе сибирское. Означает «будка», «подсобка». И уже «времянка» кажется мне неточным – какая же она времянка, если стоит и стоит столько десятилетий.)
Еще до бани появились ворота. Железные, удобные вместо просевших деревянных. Когда закончили с баней, мама наняла рабочих, которые сняли шифер с крыши избы и положили металлочерепицу, стены обшили сайдингом, вставили в окна стеклопакеты.
А этой осенью отремонтировали счетчик, обновили часть проводки, деревянный электрический столб заменили бетонным.
Теперь я понимаю, почему она так активно занялась строительством и серьезным ремонтом. Чтобы мне жальче было продавать участок. Одно дело, если всё ветхое и старое, пригодное лишь на дрова, а другое, когда только что поставленное, свежее, во что вложены солидные деньги.
На это была израсходована бо́льшая часть их сбережений. И несколько раз мама в последние месяцы просила меня: «Не продавай, пожалуйста. Пусть так… ладно, пусть лазят, но не продавай. Земля лишней не будет».
Именно – землю ей было жалко терять. Важно было знать, что после ее смерти земля останется нашей. А обшитый дом, новая баня, косилка, это как дополнение – удобства жизни при земле. Двадцати двух сотках.
Последний раз маму отправляла в больницу Лена. Приехала ее навестить в середине января и увидела, что ей совсем худо… Мама обычно храбрилась, особенно в разговорах по телефону. Уже вот встать не могла, замерзала – соцработница Люда топила печку утром и вечером, но разве так избу прогреешь, даже такую маленькую, – а по телефону говорила: всё «в целом» неплохо, идет на поправку.
Лена приехала, ужаснулась, вызвала скорую. Пока ждали, собрала ценные вещи в машину, отдала соседям на сохранение бензиновую косилку. Она длинная, а разобрать, чтобы в машину влезла, у Лены не получилось.
Надо будет взять, выкосить. Хоть на месяц придать огороду более-менее ухоженный вид. А то глянут через забор на эти заросли, решат, что брошенный дом, и полезут…
Снятся и дом, и огород теперь куда чаще, чем когда родители были живы. И кажется – там, в городской квартире, – что я мог бы провести в деревне всё лето, вернее, весь огородный сезон. Но… Хм, всегда эти «но» – они, как шлепок по щеке, заставляют остановиться, приводят в себя. Да, «но» – но жена ждет ребенка. Срок большой – в конце августа, в сентябре должна родить. Отпустила на две недели.
Про всё лето мне, наверное, действительно только кажется. Обычно как раз через две-три недели начинает тянуть в город. И не в ближайший Минусинск с сотней тысяч жителей, почти на две трети деревянный, с подобными избушками и огородами, а в большой. В Питер, куда я уехал после школы, в Москву, где провел двадцать лет, в Екатеринбург, где живу теперь…
Шукшин кому-то написал или в записной книжке заметил: «Лучше писать и жить дома. Не совсем, но подолгу, по году так». Мечтал, что снимет фильм про Разина, бросит кино, реже станет бывать в Москве, а чаще на родине. «По году».
Нет, после прошлой осени и нескольких дней в феврале, которые я провел здесь, не верится, что Шукшин бы выдержал год в деревне. И дело не в морозах, не в сортире во дворе, не в печном отоплении, не в баньке, которая немногим лучше нашей старой (я был в Сростках, осматривал их усадебку), а в атмосфере. Опять же Шукшин говорил, что не может без кино – закисает за писательством. Представляю, как бы он закис за писательством не в центре Москвы, а в деревне в сорока километрах от ближайшего города… Да уехал бы через месяц-другой.
Хм, кто из писателей, став известным, постоянно жил в деревне? Кажется, даже из деревенщиков никто. Никто на это не отважился.
Из города приезжают, селятся. Есть такие. Особенно много было в начале девяностых. В том числе и наша семья…
Сквозь траву, будто в воде иду, пробираюсь к ягоде.
Поначалу я в своих повестях и рассказах писал просто «виктория» без всяких расшифровок. И удивлялся, что редакторы в московских толстых журналах не знают, что это. Приходилось объяснять, ссылаться на книгу «Соленое озеро» Владимира Солоухина, который, побывав в Хакасии, узнал про «викторию» и посвятил этому понятию с полстраницы. Редакторы хмурились – то ли не любили всего Солоухина, то ли именно «Соленое озеро», где нехорошо про Гайдара, – и просили все-таки показать в моих текстах, что «виктория» это сорт садовой земляники. «Хотя какая это земляника, – добавляли, продолжая хмуриться, – это клубника. На рынке так и пишут – клубника». Я рассказывал, что у нас в Сибири клубникой называют дикую ягоду. «Ну и земляника ведь в лесу растет», – перебивали меня. Я не сдавался: «А клубника в полях».