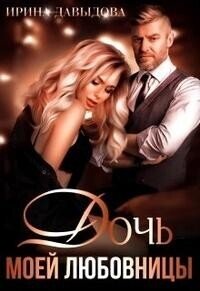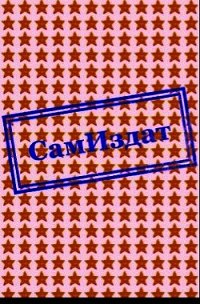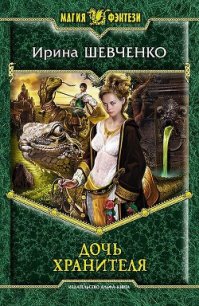Генеральская дочь - Гривнина Ирина (читаем книги TXT, FB2) 📗
Чем был он для нее? Очевидно, «пляжным» развлечением. Но может быть, потом ее увлекла и покорила непосредственная сила этой мальчишеской любви, готовой на самопожертвование. Несомненно, ей нравились робкие прикосновение руки к ее руке, первый разрешенный поцелуй, в смятении запечатленный не на губах, а где-то на краю подбородка, а после — бережные, осторожные движения, беспокойные вопросы: «Тебе не больно? Тебе хорошо?»
Рядом с ним она сама себе казалась лучше, чище, умнее. Особенно лестно было получать в подарок специально для нее сочиненные стихи.
Трудно сказать, что вышло бы из всего этого и была ли его безумная любовь ко благу или к худу. Жизнь сама приостановила эксперимент, вытолкнув его с комсомольского собрания и оставив ее там, где, вне всякого сомнения, она проголосовала «за» вместе со всеми.
Reprise
На следующий после собрания день ему не обязательно было идти на занятия. Маме, заглянувшей с утра в комнату («А ты чего не встаешь?»), он жалобным голосом сказал, что его знобит, он, пожалуй, полежит, и в результате этой невинной лжи получил стакан горячего чаю в постель. От чая, против ожидания, его потянуло в сон. Свернувшись клубочком, поплотнее завернувшись в одеяло, он уютно задремал и только увидел — яркие маки среди зеленой травы, белые стены татарского дома в Коктебеле, таинственно-зеленую морскую воду, как вдруг, бешеным звоном все обрывая, грянул телефон.
Кутаясь в одеяло, он выскочил в коридор, схватил трубку… Голоса, ее родного голоса — вот чего ему не хватало, вот чего он ждал, нс веря в возможность этого чуда, ждал со вчерашнего дня. Но конечно, это была не она. Это была секретарша ректора. Назвавшись своим собственным «приятелем, вы меня не знаете», он выяснил, что должен немедля явиться к ректору для разговора, и клятвенно пообещал «непременно передать».
Понятно было, что теперь уж они не отцепятся, и назавтра он снова не пошел в консерваторию. Не пошел и на другой день, и на третий. Он уходил утром из дому вместе со всеми, несколько часов болтался по улицам, сидел в кино или в библиотеке, снова возвращался домой и, сам не зная для чего, садился заниматься.
Так он прожил несколько недель, не задумываясь над будущим, наслаждаясь одиночеством и мечтая о том, что в один прекрасный день позвонит, как прежде, Бэлла и они пойдут гулять по осыпанным ранним снежком улицам. Он ждал напрасно: она так и не позвонила.
И все равно, ему было хорошо. Он и не представлял себе, какое это счастье — не встречаться каждый день на консерваторской лестнице с неприятными людьми и не желать им «доброго дня». Но счастье кончилось, когда на его имя пришло официальное уведомление из ректората, в котором сообщалось, что «студент такой-то отчислен из консерватории за регулярное непосещение занятий и академическую неуспеваемость» (вспомнили-таки ему недосданный в прошлом году зачет по какой- то «марксистской эстетике»).
Только тут он осознал, что же он наделал. Он потерял Бэллу — и это было ужасно. Но кажется, еще ужаснее было то, что он навеки лишился ежедневного счастья осторожно, чтобы не задеть педалей, усаживаться на длинную скамью (средневековой аскезой веяло от жесткого деревянного сиденья без спинки), касаться клавиш и вздрагивать от наслаждения, вслушиваясь в рождающиеся в гортанях труб звуки.
«Когда ты играешь на своем инструменте, ты должен суметь услышать весь оркестр» — так говорил учитель в школе, он помнил это. Садясь за орган, оркестр не надо было воображать — стоило переключить регистр, и оркестр, весь целиком, звучал под его пальцами…
Он и не вспомнил о том, что, вылетев из консерватории, автоматически попадал в число тех, кто подлежит призыву в армию (а ведь не было для него ничего страшнее этой армии, только что вступившей в Чехословакию).
Зато именно об этом подумала мама, выслушав длинный, путаный рассказ о том, почему он не ходил на занятия. И приняла энергичные меры: сама сходила в ректорат, сама сказала, что он нездоров, договорилась, что в ближайшее время принесет им справку от врача и тогда ему задним числом оформят академический отпуск с правом восстановления в следующем году. В ректорате ей, видно, что-то рассказали. Вернувшись домой, она снова насела на сына, пытаясь добыть зерно истины из его все более и более запутывающихся признаний, но услышала только жалобы на «странное самочувствие», «усталость», «апатию» и «чувство страха».
С этим незатейливым багажом они отправились к врачу, где мама долго рассказывала о «подозрительной наследственности» и «странном в последнее время поведении». После настала его очередь отвечать на странные вопросы врача, позволять чертить у себя на груди какие-то значки ручкою маленького молотка, проверять рефлексы в коленках…
Наконец врач сказал, что сомневается в диагнозе, что для уточнения необходимо более глубокое обследование и не положить ли его на месячишко в хорошую, очень хорошую больницу, в санаторное отделение?
Мама радостно согласилась и через знакомых устроила все очень скоро: не прошло и недели, как для него нашлось место, и вот они с мамой уже садятся в такси и едут, и мама шутит, как когда-то шутил дядя Влад по дороге в папину больницу.
Они расстались в «приемном покое», мама рассеянно чмокнула его в щеку и заметила, что «все к лучшему», что «давно пора было это сделать», что ничего страшного в обследовании нет, скоро он вернется домой, а пока пусть будет умницей и слушается доктора.
Больница, как водится, была переполнена. В палатах проходы между койками были так узки, что приходилось боком протискиваться к своему месту. Койки стояли и в коридорах, и даже в общей столовой ширмами был выгорожен угол, в котором ютилось двое наиболее покладистых больных.
В первый же день выяснилось, что среди лежавших на обследовании большинство — здоровые молодые ребята, дети культурной или партийной элиты, мечтающие избавиться от перспективы армейской службы. Изучая толстые, старинные учебники психиатрии, откопанные в дедовских библиотеках либо позаимствованные у знакомых, они выбрали себе подходящие симптомы, после чего оставалось только убедить врачей в неопровержимом присутствии именно этих симптомов, и «мягкий», но заведомо освобождающий от армии диагноз был готов.
Эта «золотая молодежь» составляла своеобразный «клуб здоровых» и изо всех сил старалась не терять времени зря. Медсестры пили вместе с ними водку по вечерам, веселились напропалую и, мечтая окрутить одного из этих ловких юношей, писали в «Журнале наблюдений» то, что им диктовали сами наблюдаемые.
Он не мог, даже если бы захотел, войти в их тесный, веселый коллектив: его привычная погруженность в себя здесь трактовалась как серьезный симптом болезни. Сестры, видимо в отместку за то, что этот мрачный чудак не обращает на них внимания, записывали ему «вялость», «депрессивное состояние» и прочие психиатрические прелести. Вдобавок он похвастался своей выходкой на собрании молоденькой медсестре Мариночке, с которой однажды мило покурил, сидя на солнышке, и этот рассказ тут же попал в «историю болезни», где записана была уже «подозрительная наследственность». Как-то затесалось туда и совсем давнее — площадь, на которой читали стихи, привод в милицию…
Короче говоря, с диагнозом проблем не возникло. Врач, не задумываясь, вписал в «историю болезни» роковые слова: «шизофрения в вялотекущей форме». Узнав, какой ему поставили диагноз, он забеспокоился. Вспомнилась подслушанная во времена «вольтеровского» кресла семейная история о том, как отца комиссовали из армии после крупной ссоры с начальством: отец дал пощечину оскорбившему его командиру полка.
Отцу предложили тогда, чтобы замять дело, пройти медкомиссию и поставили такой же диагноз (только без слова «вялотекущая», в те поры еще не изобретенного).
Очень удобный диагноз: врачи считают эту болезнь неизлечимой, от него никогда нельзя будет избавиться. Итак: на всю жизнь…