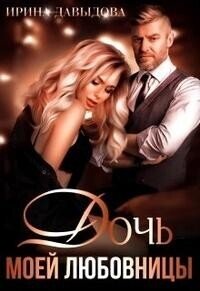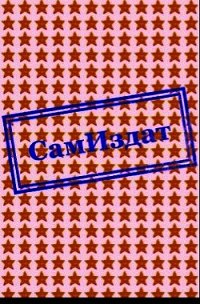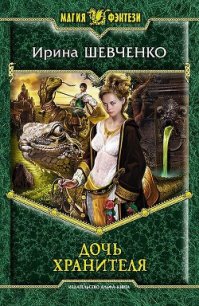Генеральская дочь - Гривнина Ирина (читаем книги TXT, FB2) 📗
«…и теперь я больше не принадлежу себе. Я причислен к сумасшедшим, к тем, кого нам с мамой приходилось встречать во время посещений папиной больницы. На мне такой же, как на них, линялый халат неопределенного цвета, тапочки слишком большие и сваливаются с ноги при каждом шаге. Мама приходит навестить меня раз в неделю и приносит „передачу“: финский плавленый сыр „Виола“, копченую колбасу, баночку варенья… Она приносит чистое белье, потому что я не ношу больничного, и носки. Каждый раз я прошу ее принести удобные тапочки, и каждый раз она говорит, что забыла или — не смогла купить, и обещает принести через неделю.
По ночам я просыпаюсь, выхожу из палаты и, шаркая сваливающимися тапочками, бреду в конец коридора. Здесь можно недолго побыть одному. В тишине ясно журчит вода в писсуарах, капли падают из неисправного крана с очень точными промежутками, раз в секунду. Можно курить, думать, сочинять стихи.
…Неужели это не сон, неужели это случилось со мной, этот невероятный диагноз, эти всклокоченные, дурно пахнущие люди вокруг? Я ведь ничего такого не чувствую (но, может быть, это как раз и есть главный симптом болезни, говорят, сумасшедшие всегда считают себя нормальнее нормальных). Надо внимательнее следить за собой.
Но я ведь ничего не чувствую, и у меня не бывает резких перемен настроения, и я все помню…
Теперь уж точно я никогда больше не увижу ее. Таким я не посмею к ней даже приблизиться. Вообще мне, наверное, лучше не жениться ни на ком…
Как жалко, что у меня не будет детей. Мне так хотелось, я так…
Нет, об этом лучше не думать. Вон, у папы как вышло. Ведь они, даже если ничего такого нет, все равно напишут: „наследственность“…
Я не хочу, чтоб моего ребенка…
Они дают мне какие-то таблетки, но я приспособился их выплевывать, так что вреда большого от этого лечения нету. Во всяком случае, у меня не трясутся руки, как у большинства здешних пациентов.
В каком-то, кажется английском, романе я прочел: „Будьте кротки, как голуби, и мудры, как змеи…“ Хорошо сказано. Так я себя и решил вести. Никто из них больше никогда не узнает, о чем я думаю на самом деле. Никаких разговоров, ни про поэзию, ни про политику. Строить планы на будущее, говорить о том, что хочу возобновить занятия музыкой, спрашивать, нет ли возможности позаниматься здесь.
Мой лечащий врач в ответ на эти хитрости приложил массу стараний и изобретательности и действительно нашел пианино в соседнем отделении. Немного расстроенное, но играть можно. Велели только не играть грустного, так что я им лабаю по вечерам Моцарта и Вивальди. Мама ноты привезла, выглядела веселой, наверное, ей сказали, что у меня — „ремиссия“…»
В конце концов ему удалось выйти из больницы без особых потерь, если не считать «неопровержимого диагноза», в который он, кажется, начинал потихоньку верить. С консерваторией тоже все уладилось, но он не мог вернуться туда раньше будущей осени, и дядя Влад беспокоился («что же ты, целый год бездельничать будешь?») и предлагал свое посредничество в устройстве на работу. Похоже, он и впрямь желал пасынку добра, потому что вдруг, совершенно неожиданно, решил официально поменяться с ним квартирами.
Собственно, это было только разумно: мать дяди Влада к тому времени давно умерла, квартира, в которой она прежде жила, все равно пустовала, а в освобождавшейся с его переездом комнате дядя Влад планировал устроить себе кабинет. Перед самым Новым годом они вдвоем перевезли на новое место его вещи, книги и, самое главное, бабушкино берлинское пианино.
Сперва он даже не понял, какое счастье на него свалилось. Располагаясь на новом месте, прибивая полки и расставляя книги, он и не думал о том, как заживет в одиночестве, пока из-под стопки книг не вынырнула одна из ледериновых тетрадочек, о которых, в суматохе последних месяцев, он и думать забыл. Тут только до него дошло, что теперь не нужно больше ни от кого прятаться, а все свободное время можно отдавать любимому развлечению — сочинительству. На радостях он назвал свою обитель Уединенным Островом (название было написано красивыми славянскими буквами на дощечке, приколоченной в прихожей) и, наслаждаясь неожиданной свободой, затеял писать роман: за месяц примерно набросал, как он сам для себя это называл, «черновик черновика».
Тем временем и с работой все устроилось неожиданно удачно: бабушкина приятельница с университетских еще времен, знаменитая детская писательница Серафима Александровна В., нуждалась в секретаре. Он согласился с радостью, потому что все его детство было освещено книгами этой старушки и до сих пор в его шкафу стояли пухлые от старости тома в твердых переплетах, с бездарными цветными картинками.
Серафима Александровна жила недалеко от метро. Квартира ее состояла из обширного кабинета и кухни, где приходившие друзья угощались на скорую руку сварганенным супом из «чего найдется в доме» и свежими калачами, ими же самими и принесенными из ближней булочной.
Но друзья являлись нерегулярно, нужен был человек, который бы приходил каждый день, в определенный час, покупал необходимые продукты, находил завалившиеся за диван вещи и по ошибке засунутые не в тот ящик рукописи.
Нужен был человек, способный вычитать верстку новой книги, принесенную курьером из редакции (вернее, прочесть ее автору вслух и внести правку, потому что весьма для своих лет бодрая Серафима Александровна страдала прогрессирующей слепотой и читать почти совсем уже не могла).
Он явился договариваться о работе и обнаружил, что попал в удивительное место. Сама хозяйка, в которой древняя кровь избранного, проклятого народа не желала угомониться под тонкой пленкой нечаянного христианства, была красива особой, неувядающей красотой, какой бывают (не иначе как в награду) отмечены некоторые старухи. Огромные портреты Качалова и Хлебникова, друзей нереально далекой юности Серафимы Александровны, украшали короткий отрезок стены над тахтою — единственное место в доме, свободное от книжных полок.
Фантастическая коллекция пластинок с дарственными надписями Прокофьева, Шостаковича, Бриттена и — книги, книги, книги… Старинные кабинетные полки с подымающимися стеклянными дверцами заполнены были томами в кожаных переплетах, с тисненными золотом инициалами отца и деда Серафимы Александровны. На простых стеллажах плотно стояли незатейливые бумажные и картонные обложки двадцатых, послевоенные издания и словари. И странно диссонировали со всем этим разномастным хозяйством яркие суперобложки книг, привезенных друзьями из-за границы.
Здесь, среди книг и нескончаемых рассказов о прошлом, он готов был провести остаток жизни и потому взялся за работу рьяно. Бегал за продуктами и ловил такси, возил Серафиму Александровну на выступления в школы и библиотеки по всему огромному городу, проводил у нее иногда целые дни и выучился даже готовить под руководством старушки несложные блюда: супы, яичницу, тосты с сыром.
С осени он возобновил занятия в консерватории. Теперь все здесь относились к нему с бережной предупредительностью, иногда он ловил на себе сочувственные взгляды профессоров и студентов. Несколько раз в конце длинных коридоров он видел Бэллу, но не смел к ней приблизиться. А она не замечала или — не хотела его замечать. Первое время от этого болело сердце и становилось трудно дышать, но время шло, и боль притуплялась, и тонуло в темном омуте памяти волшебное коктебельское лето, уютная пещера в скалах, прогулки по холодной, слякотной Москве.
Наконец он перестал вздрагивать и шарахаться в сторону, увидав ее идущей навстречу по коридору или садящейся за соседний столик в студенческой столовой, снова вошел в привычный ритм работы и начал делать успехи. Жизнь его стала богаче: благодаря регулярным визитам к Серафиме Александровне она приобрела дополнительную глубину и цвет. Он заезжал к ней вечером, а иногда — и в середине дня (благодаря «неопровержимому диагнозу» он получил свободный режим занятий и лекции по марксизму сладострастно пропускал).