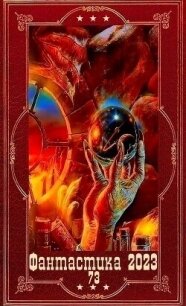Мальчики и другие - Гаричев Дмитрий Николаевич (книги бесплатно без .TXT, .FB2) 📗
На неделе от него отказались еще четверо учеников; он прощался спокойно, просил передать старшим его благодарность, и не сдержал себя лишь с занудным армянчиком, который все никак не мог договорить, что же он подумал и понял; давай я скажу за тебя, что ты там осознал, предложил Тилеман: ты не можешь учиться у человека, которого вдруг сочли недоделанным, потому что когда недоделком считают тебя, это вроде бы еще можно терпеть (ты же терпишь и в школе, и дома), а когда в тот же ряд записывают кого-то из старших, это становится невыносимо: ты же веришь сейчас, что с возрастом это пройдет, а тебе сообщают: нет, необязательно. Мальчик чем-то заскрежетал и распался на короткие гудки; мелкая сладость сомнительной мести почти не утешила Тилемана, оставшегося уже без половины месячного заработка, и в тоске он позвонил матери, чтобы просто пожаловаться, но та предпочла не отвечать. За продуктами он приходил теперь ближе к закрытию, но и в пустом супермаркете его задевали набранные с поселка раскладчики, а на кассе хамили дешевки из колледжа. Тилеман всякий раз отвечал нападавшим, но внутри себя уже примирился с тем, что проиграл; можно было радоваться хотя бы тому, что они перестали сносить мусор к его двери и физически не могли ничего забросить в его высокое окно. Те же ученики, что еще поднимались к нему, становились почти так же развязны, как шкуры за кассой: он стучал на них тростью, язвил остротами, выматывал прописями и скороговорками, но это они уходили от Тилемана со щитом, а он оставался один на своем пепелище.
В ночь на очередную субботу хлынул дождь, так что уличные синяки убрались по своим конурам; Тилеман открыл все окна, и комнаты наполнились темным шумом воды, низвергавшейся с крыши. Хотя у него теперь было в два раза меньше работы, он чувствовал себя до последнего вымотанным, но спать все равно не хотелось. Всю неделю он не проверял сестринский инстаграм, сберегая себя от дополнительной досады, и теперь заглянул на страницу: знаменитое видео с младшей было потерто, а новых постов не висело; но Тилеман не успел даже подумать, что сестер, возможно, отпустило, как они показались опять: щекой к щеке прижимались их лица в траурном гриме с черной буквой Т, занимающей брови и нос, пока глаза изображали мультипликационную скорбь. Pourquoi si Triste, спрашивала подпись, и сочувствующие арабы то ужасались, то просили увидеть le reste du kor, то угрожали расправиться с тем, кто заставил сестер так грустить. Подождав, не появится ли на странице чего-то еще в его честь, Тилеман распечатал печальный портрет и поджег на балконе: пламя слизало сначала половину старшей, а после, помедлив, прикончило младшую и вернулось за первой; опустошенный, он выбросил остаток бумаги под дождь.
Когда еще трое школьников объявили, что не будут учиться у Тилемана, он собрал самые нужные книги, поместившиеся в один спортивный рюкзак, взял ноутбук, внешний диск, шнуры и остатки коньяка, спустился во двор и встал под окнами матери: было девять утра, она должна была уже проснуться. Давно не встречавшие его на свету поселяне проходили роняя нечеткую брань, но не задевали его даже за рюкзак. Он стоял, вспоминая какие-то детские драки и травли, некрасивые игры, спущенные штаны и первый удар между ног, отравленных кошек, наезжавших сектантов со звуковой аппаратурой, боевых инвалидов, алкоголика, похожего в профиль на сгнившего Пушкина, агитаторов за коммунистов, а позже мошенников с лазерными аппаратами, косоротых ментов и глухих слесарей, фальшивых электриков, коллекторов с краской в баллончиках и утырков, бегающих теперь по закладкам в лесу: тридцать лет шевелящейся грязи, одна только мама и светила ему,– и, когда она наконец отодвинула занавеску на кухне, Тилеман почти уже плакал.
Переселившись в родительский дом, он сдал свою площадь команде из Узбекистана, спровадил двух последних неведомо как задержавшихся в обойме учеников, оставил бриться и взялся за комментированного Пруста, купленного на старость еще в университетскую стажировку. Еще в самом начале «Свана» Тилеман допил коньяк, но даже не пожалел, что тот кончился; когда на полдня подобревшая мать предложила купить ему новый, он не понял, к чему это. Отрываясь от чтения, он отжимался или приседал сотни, тысячи раз, пока не изнемогал, и тогда возвращался обратно за книгу. Мать жила на втором, и он старался не мелькать перед окнами попусту; день сжимался медленней, чем хотелось бы Тилеману, но он готов был терпеть и каждый вечер послушно отмечал в ежедневнике минуту, когда солнце покидало двор. Если к матери заходили подруги, он становился прекрасно бесшумен, и даже с открытой дверью в его комнату никто не мог догадаться, что он сейчас там. Матея и Герта по-прежнему писали ему, приглашая к себе в обыкновенное время, и он не мог сообразить, что ответить: начиная печатать как бы наудачу, спотыкался о каждое слово, как его бывшие ученики на уроках, и стирал еле набранное подчистую.
По выходным у Высоцких были кукольные представления, выступали столичные лекторки: мать ходила повсюду и все пыталась что-то ему пересказать, какие бы пустые глаза ни делал ей сын; хорошо еще, что ему не передавали с ней ни petit coucou, ни чего похуже. К концу первого тома Тилеман уже мало заботился о том, что происходит теперь в его квартире или в инстаграме у сестер; плечи его раздались так, что навряд ли кто посмел бы въехать в него магазинной тележкой, но проверять это было неинтересно. В октябре посыпался выморочный снежок, завелись батареи, самый мозг стал ленив, и в какой-то из дней он все-таки попросил маму купить ему новый коньяк, что было исполнено. Ночью Тилеман пил, пока не перестал различать буквы в книге: казалось, что все происходит глубоко под землей, в янтарном аду, еще не знающем, как поступить со своим заключенным. Утром же поднялось такое пронзительное, последнее солнце, что он впервые с того дня, как укрылся у матери, вышел в чем был на балкон под его ледяные лезвия и, освоившись на холоде, посмотрел вниз: на асфальте под самыми окнами лежали огромные белые буквы Tileman n’a pas de queue!, плохо скрываемые неподметенной листвой.
Скачущими руками он выгреб из-под ванны все железные банки с остатками охры от здешних ремонтов, отодрал прикипевшие к кафелю кисти, влез в первое попавшееся на вешалке пальто и выскочил во двор, чтобы замазать паскудную надпись, но на него пошли сразу из всех углов, он не успел бы исправить и одной буквы. Тилеман метнулся обратно, но двери уже перекрыл молодой толстяк с ротвейлером; справа массово наступали жлобы с химзавода, и бежать можно было только в сторону леса, сквозь не слишком уверенно вставших подростков: он швырнул в них банкой и бросился следом в приоткрывшийся створ.
В узком месте на самом краю двора ему предсказуемо заступила дорогу короткая клуша с коляской, и он опрокинул и ту и другую; проскакивая спортплощадку, он не мог не взглянуть на проклятый мезонин и увидел, как окна его горят немигающим красным и как вялая влажная мякоть сочится из них, словно бы из раздавленных ягод. Олухи из ближних гаражей тоже устроили что-то вроде засады с распахнутым люком, но Тилеман легко обогнул их, миновал котельную и наконец свернул в лес, пахнущий сейчас так сладко, как будто все еще могло закончиться хорошо.
Он петлял на бегу, надеясь, что они упустят его из виду, но то одни, то другие выдвигались вперед в ораве преследователей, и Тилеману не удавалось ни затеряться, ни оторваться подальше. Пальто только мешало, он скинул его на землю и стал забирать к полигону, рассчитывая, что если он сможет заманить поселковых поближе, то из части откроют стрельбу; эта мысль увлекла его так, что он расхохотался, и тогда же запнулся о невидимый в листве корень, упал и проткнул себе ногу чуть выше колена. Догонявшие подошли к нему не спеша и почти ничего не сказали, замкнув тесный круг.
Когда Тилеман понял, что его тащат к пруду, он из последних сил забился во многих руках, и его даже выронили, но тотчас подхватили снова; обезумев, он все же узнал среди них и Лилояна, и докторшу Краплеву, и даже первого Славика, как-то вырвавшегося ради этого дела из орловской тюрьмы. Желтая вышка теперь почти сливалась с лесом и берегом; его прижали к ней спиной, для надежности сунули кулаком в печень, привязали его руки так, что даже не было видно, и с поразительной прытью покинули место. Широко раскрыв рот, он глотал налетающий ветер; отдаленные сосны, извиваясь, вытягивались до самого неба. Мутное облачко, висящее над отяжелевшей водой, как будто просилось к нему на колени, Тилеману хотелось погладить его, но мир был уже недосягаем, неудержим. Икая и вздрагивая, он прислушивался, как двуглавый зверь движется сзади него, как растет его запах и жаднеет дыхание, как вскипает слюна у него на клыках и плавится под раскаленными лапами сорный солдатский песок.