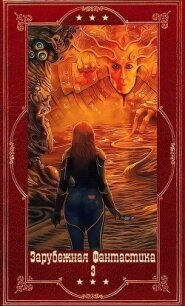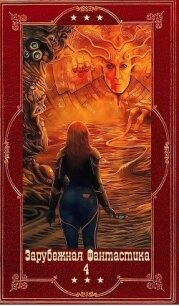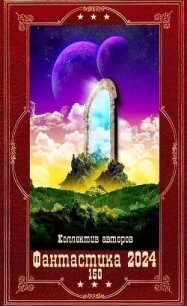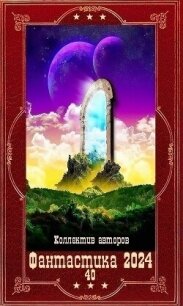Угол покоя - Стегнер Уоллес (книги бесплатно без .TXT, .FB2) 📗
– Por nada [49], – только и умела она сказать в ответ на его россыпь благодарностей, и он получил от нее сердечнейшее adiós [50], когда привел в движение Санчо и прочих мулов, после чего они, обогнув дом, вернулись на тропу. Напоследок она увидела, как старик идет, благоговейно прижав рисунок к груди, точно священную реликвию.
Она ощутила разлившееся тепло, как бывает, когда сделаешь благое дело для бедных; ей понравилось его восхищение, хоть и вызвало улыбку; было чувство, что у нее появился друг. Вообще‑то ее слегка уязвило замечание одной изкорнуоллских жен, которое ей как нечто забавное передала Лиззи: “Миссус мистера Уорда что хошь тебе нарисует, но на что еще‑то она годна?” Она сказала себе, что мексиканцы, сами более живописные, чем молочно-бледные корнуольцы, лучше понимают значение изобразительного искусства.
Но что бы она делала, не будь рядом Лиззи? От мысли, что пришлось бы взяться за платок самой, по ней пробежали мурашки.
– Давайте передохнем немножко, Лиззи, – сказала она и прислонилась к дереву.
Лиззи, сидевшая на массивном корне калифорнийского лавра с распущенными темными волосами и самодельной буквой A [51] из красной ленты на груди, перестала смотреть на невидимого Артура Димсдейла взглядом, которому пыталась придать выражение виноватой страсти. У нее было развитое женское тело и красивое лицо с выпуклыми скулами, прямым носом и прямыми, густыми, строгими бровями. Но бесстрастное само по себе. Ей трудно было изобразить гордость и безрассудство Эстер Принн, и Сюзан не могла объяснить ей суть дела полностью, не рискуя навести ее на мысли о своем собственном запечатанном прошлом. Фигура, которую она нарисовала, удовлетворяла ее, корень лавра она успешно преобразила во что‑то готорновское, из темного дерева, но лицо не выходило. За два часа оно каких только выражений не приняло – от каменного, обычно присущего Лиззи, до жутко злобного, – и сейчас она стерла его в четвертый или пятый раз.
Ей не очень хотелось рисовать, но она чувствовала, что должна. Она подписала контракт, деньги были нужны, ей следовало давать рукам и голове занятие – причин было много. Но она предпочла бы вяло сидеть, позволяя смутным мыслям клубиться в голове. Воздух давил, как перед дождем, хоть она и знала, что дождя может не быть еще не одну неделю, а то и не один месяц. Она втягивала, сколько хватало легких, этот воздух, обремененный пылью, плесенью и пряными запахами здешнего леса, и она все бы отдала за аромат сенокоса или за сырой мшистый воздух у ручья над Длинным прудом. Даже звуки тут были сухие и ломкие; звуки, по которым она тосковала, были увлажнены зеленым мхом. Ее опять подташнивало.
Она в задумчивости смотрела на Лиззи, которая, пользуясь перерывом, меняла Джорджи подгузник. Мальчонка извивался, крутился и гулил вовсю, хватаясь за ленту, приколотую к маминой груди, но она взяла сына за щиколотки, поддернула в воздух его задницу и ловко сунула под нее сухой подгузник из мучного мешка с выцветшей фирменной надписью. Двумя быстрыми движениями закрепила ткань. Не улыбаясь, пощекотала ему голый пупок и положила сына обратно в ящик. А чего с ним цацкаться, с этим карапузом, лишенным отца; он уже, кажется, в какой‑то мере перенял у матери ее стоицизм. Он мирился с тем, что предлагала жизнь, и не жаловался. Его плач Сюзан слышала всего пять-шесть раз.
Что‑то в Лиззи было трагическое. То ли катастрофический брак, то ли предательство, подстерегшее хорошую девушку. Да, Лиззи правда была хорошая – бабушка, при всей своей утонченной благовоспитанности, не могла этого отрицать, как бы ни был зачат Джорджи. Но однажды, когда она спросила Лиззи, не будет ли ей легче, если она расскажет о своей жизни, та коротко ответила: “Лучше про это не надо”.
За тысячи миль от друзей и родных, лишенная мужской поддержки, она терпеливо сносила тяготы жизни. За работой часто пела сыну песенки, и голос был вполне счастливый; но однажды, баюкая его, начала было “Bye Baby Bunting” [52] – и осеклась, как будто услышала стук в дверь.
У нее были комнаты внутри головы, куда она старалась не заглядывать. Но к ней очень хорошо относились корнуолки, заходившие в гости, а в другом обществе она, по всей видимости, и не нуждалась, была явно не так одинока, как ее хозяйка. Сюзан спрашивала себя, чем объясняется ее собственное недовольство: слабостью или всего лишь большей чувствительностью? Имеется ли в людях из рабочей среды что‑то затверделое и бесчувственное, ограждающее их от того, что ощущают тоньше организованные натуры? Если вдруг Джорджи умрет, будет ли Лиззи так же подавлена, апатична, повергнута в отчаяние, как Огаста до сих пор, – или поднимется утром, поддержанная некой грубой силой, разожжет огонь, приготовит завтрак и примется за прочие обычные дела?
Сюзан не в силах была себе представить, каково это – понять, что твой муж подлец, и решиться от него уйти. А жертвой соблазнителя она уж вовсе не могла себя вообразить. Никакой возможности хотя бы отчасти проникнуться чувствами женщины, которая носит ребенка, презирая будущего отца. Но об ощущениях, которые испытываешь, когда носишь ребенка, она уже имела некоторое представление: у нее два раза не пришли месячные. Тошнота висела на краю ее сознания, как туман, повисший вдоль гребня, но не скатывающийся вниз.
Что если бы у нее не было мужа? И пришлось бы проходить через все одной, в этих примитивных поселках, вдалеке от всего милого сердцу и оберегающего от напастей. В ее мозгу вспыхнуло в увеличенном виде, словно пластинку вставили в волшебный фонарь: светловолосая голова Оливера, тронутая красноватым утренним солнцем, опускается в яму Кендалловой шахты под стенание медлительных колес. Что если он не вернется после одного из своих спусков под землю? Порванный трос, обрушение, взрыв, “мертвый воздух” – любая из десятка опасностей, которым он подвергается каждый день. И что тогда? О, домой, домой! Немедленно. Бедная Сюзан, поехала к мужу на Запад, трех месяцев не прошло – и он погиб. Нет, не верится мне, что она снова выйдет замуж, она довольно поздно за него вышла и очень его любила. Мне думается, она возобновит свою карьеру, будет тихо жить в Милтоне в доме отца, принимать у себя, как прежде, старых нью-йоркских друзей. Ее дорогая подруга Огаста, тоже перенесшая жуткую утрату, родит еще одного ребенка, он будет всего на несколько месяцев старше ребенка Сюзан. А у ее сестры Бесси уже двое, до них полмили ходу, даже меньше. Дети смогут расти вместе, они будут неразлучны.
Она ужаснулась тому, что в этой фантазии было что‑то манящее. Нет, нет, Оливер бесконечно ей дорог, ей не пережить его утрату. И все же, все же – как было бы чудесно оказаться дома, где можно побеседовать по душам с женщиной – с мамой, с Бесси, лучше всего с Огастой. Она почти завидовала Лиззи, у которой были эти жены корнуольцев, хоть грубое, но общество.
Лиззи подняла голову, и на секунду Сюзан увидела в ее лице то, что искала все утро: вспышка вскинутых вопрошающих глаз, безоглядная дерзость распущенных волос. “Стоп, замрите! – скомандовала она. – Вот так и оставайтесь”. Но не успела взять карандаш и блокнот, как Лиззи, глядя промеж стволов, сказала:
– Мистер Уорд идет, а с ним еще кто‑то.
– Тогда прекращаем, – сказала Сюзан и встала. – Боже мой, почему вдруг?..
Испуганная – не случилось ли что, – поспешила к калитке, но, встретив его там, увидела, что он расслаблен и весел, в своей рудничной одежде, но не испачканной так, как если бы он провел утро под землей. Темноволосого молодого человека, который пришел с ним, звали барон Штарлинг, он был инженер и приехал из Австрии. Они зашли только для того, чтобы Штарлинг переоделся для спуска в шахту.
Поднимаясь с Оливером на веранду, Сюзан бросила на него многозначительный взгляд. “Не в моей спальне, – говорил этот взгляд. – В той комнате, пусть она и заставлена сундуками”. Но он повел барона прямиком к спальне, жестом пригласил его войти и закрыл за ним дверь.