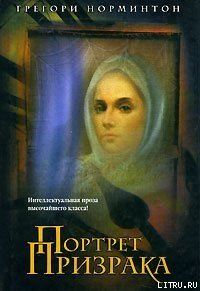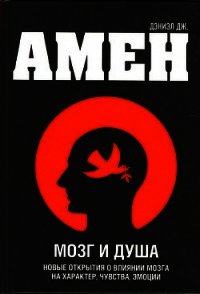Чудеса и диковины - Норминтон Грегори (список книг TXT) 📗
Моя комната располагалась под самой крышей – то есть на втором этаже, – туда надо было подниматься по спиральной, заросшей паутиной лестнице. Единственное окно выходило на улицу. Увидев, с каким отвращением я смотрю на следы, оставленные прежним обитателем (перчаточник, которого повысили до небольшого домишки в Кляйнзайте, оставил, съезжая, заплесневелые напоминания о себе – как собака, что метит территорию), Бартоломеус Шпрангер успокоил меня: даже таким выдающимся людям, как Иоганн Кеплер и Тихо Браге (чей металлический нос приводил в восторг экзальтированных дам), в свое время тоже пришлось пожить на Ной-Вельт.
– Да нет, все нормально, – сказал я, подцепив пальцем комок пыли. – Зато это моя собственная комната. Даже если бы здесь кишели тараканы, мне все равно бы понравилось.
Читатель, я как в воду глядел.
Первоначальная радость от назначения сменилась легкой меланхолией. Может быть, так на меня повлияла тишина, царившая в доме, или вид из окна на стену сада, трепещущие тополя и шумливые ясени. Соседи оказались не особенно разговорчивыми. Фучика весь день не было дома, а часовщик на первом этаже – с мутными глазами цвета спермацетового масла, которые казались по-совиному круглыми за толстыми стеклами очков, – сидел тихо как мышь. Едва завидев меня на лестнице, он сразу шмыгал к себе. Шпрангеру, который писал три картины одновременно, было не до меня. Я ждал и ждал первого заказа, проматывая небольшое жалованье в таверне на Шпорнергассе, где питался горошком и капустой со свиными ножками. Я пристрастился к богемскому пиву и, к своему удивлению обнаружил, что таверна дышит, мягко раздувая крышу, наподобие грудной клетки.
В том месяце я дважды ходил навестить семейство Гонсальвусов, и оба раза Петрус и дети были в школе. Фрау Гонсальвус сидела со мной, жаловалась на погоду, а я боролся с диким желанием отгородиться от мира, уткнувшись лицом в ее грудь. Она просила меня посидеть и дождаться мужа; но боязнь расплакаться от этой необъятной, лохматой доброты вынуждала меня отказываться от ее любезного предложения. Понять свое счастье можно лишь по прошествии времени, задним числом – подобно тому, как рисунок обоев виден лишь на расстоянии. В семье Гонсальвусов я наслаждался краткой передышкой от своих одиноких странствий: это был дом, наполненный детским смехом и солнечными зайчиками. И все же я бежал оттуда, как Улисс – от лотофагов, чтобы уединиться на Ной-Вельт – во имя своих амбиций.
Работа в конце концов появилась: пришла сама, в облике маленького мальчонки, постучавшегося в мою дверь. Он вложил мне в руку пригоршню мутовчатых раковин, которые хрустели, как счищенная яичная скорлупа. Мальчик (которого звали то ли Эвальд, то ли Эдвард) тотчас ушел и вернулся через час, сгибаясь под тяжестью деревянного сундучка. Я отослал его без единого геллера – даже такая мизерная награда была мне не по карману.
В сундуке обнаружилась записка от Ярослава Майринка, согласно которой мне предписывалось скрупулезно и достоверно зарисовать тушью и красками доставленные ранее раковины. Изучив содержимое сундучка, я нашел там бумагу и принадлежности, достаточные для не очень масштабных живописных работ, включая дубовый футляр с акварельными красками. Наверное, я слишком хорошо подражал иллюстрациям Корнелиуса Стампера; мне досталась лишь крохи из императорской коллекции. Мне, конечно же, не запрещалось мечтать, что мне принесут загадочные, таинственные экспонаты, о которых я столько слышал и от Шпрангера, и от Арчимбольдо. Но это были всего лишь мечты: святые реликвии или природные редкости не могли покидать безопасного уединения своих шкафов. Мне приходилось иметь дело со всякими безделицами: кожистыми обезьяньими лапами, вываренным черепом райской птицы, чучелами виверы, которые недобро косились на меня бусинками (в прямом смысле) глаз, шкурой мангуста и жуками на булавках в деревянных рамках, высохшими, как пустые доспехи. Нужда и надежда на то, что меня заметят, заставляли меня работать усердно, но удовольствия в этом я не находил.
Знойное лето выжгло себя дотла. Зима принесла снегопады и глубокие сугробы, которые практически лишили меня возможности передвижения. Люди на Влтаве подражали Спасителю, разгуливая по воде. На реке открывались ярмарки, и многочисленные покупатели протаптывали по льду грязные разводы следов – так некоторые мхи оставляют патину на оконном стекле.
Как-то утром художник Фучик оставил «Золотого барана» с тем, чтобы уже никогда не вернуться сюда. Я видел лишь его спину: он прыгал по мерзлым булыжникам мостовой, перекинув через плечо холщовую сумку. По сей день, когда я мысленно представляю себе Фучика, его лицо скрыто туманом, как лик Магомета на изображениях. Ярослав Майринк однажды зашел посмотреть, не замерз ли я до смерти в своем жилище; он предположил, что Фучика уволили за безделье. Сам Майринк, кстати сказать, загладил свои ошибки и был восстановлен в статусе.
– Возьмите меня во дворец, – умолял я. – Представьте меня князьям и графиням, другим художникам. Прошу вас, пожалуйста, вытащите меня из этой дыры!
Я дрожал на своем стуле, закутанный в одеяло, и жаловался, что слышу, как трещит подо льдом Влтава, что, когда я кладу голову на подушку, то различаю, как звенит моя кровь, словно смерзшаяся в кристаллики. Майринк принимал сию бурю эмоций со сдержанным равнодушием, пока я не опрокинул с досады черную склянку.
– Господь милосердный, – воскликнул он. – У тебя даже тушь замерзла! – Он с облегчением принялся за проблему, решение которой было ему под силу. – Так не пойдет. В таких условиях невозможно работать. – Он бросился к двери, распахнул ее и выскочил на лестницу. – Я сейчас же пришлю дров, – крикнул он и потом добавил уже с улицы: – Не бойся, Томмазо. Я тебя не подведу.
Вскоре из замка принесли меховой тулуп (сами понимаете, не новый). Этот тулуп, а также бесперебойная поставка дров не дали мне умереть от холода. Оттепель в моей судьбе началась попозже, и теплые ветры подули с самой неожиданной стороны.
Прага, находившаяся под властью человека, ценившего свои книги превыше своих подданных, была что падаль для навозных мух Европы. Мошенники, фальсификаторы, жулики всех мастей – мастера искусного обмана – съезжались в город в надежде на легкий заработок. Встречались всякие выдумщики, которые вытаскивали кроликов из ящиков с потайными отделениями, парили при помощи прочных веревок или продавали чудесные снадобья, лекарственные свойства которых ограничивались лишь красноречием продавца. Может, эти паразиты и не приносили никакой пользы, но ведь они освещали мрак мыслей искрами удивления. Даже сегодня – тридцать лет спустя, достаточно насмотревшись на Провидение Божье, чтобы понять, что оно может быть делом рук дьявола, – я не хочу признаться себе, что эта встреча была подстроена. В самом деле, чей расчетливый ум мог направить ту троицу мне навстречу, когда я мог бы легко разрушить все его хитроумные замыслы, просто свернув на другую улочку?
На дворе было пасмурно, сгущались весенние сумерки. Я шел по Шпорнергассе и немного замечтался. Чуть впереди, на полпути к соблазнам таверн Кляйнзайте, брели подвыпившие гуляки. (Я сообщу вам их имена прежде, чем мы познакомимся.) Их вожак, Любош Храбал, маршировал перед Ярославом и Ботуславом, братьями-близнецами Мушек, которые были настолько же тощими, насколько сам Храбал был тучным. Я, повторюсь, замечтался и не замечал ничего вокруг. Храбал развернул свою необъятную тушу, чтобы выдать веселую шутку, и загородил братьям обзор. Несмотря на туман, они шли быстро. В самый последний момент мое внимание отвлекла замерзшая лужа, и я не заметил опасности. Толстяк завопил:
– Кристус!
Отброшенный его брюхом, я сел в грязь. Храбал в это время колыхался от волн удара, путешествовавших по его жирам. Ярослав и Ботуслав попытались поддержать его за руки, как костлявые Атланты. Но Любоша Храбала было уже не спасти. Громадина пошатнулась. Он с хохотом повалился на землю, увлекая за собой худосочные подпорки.