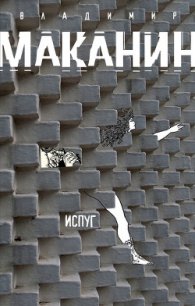Коса — пока роса - Маканин Владимир Семенович (книга жизни .TXT) 📗
Небрежно (и провокационно) он фыркал:
— Какая там красивая?! Еще чего!.. В чем ее красота?.. Ну кто? Кто? Что за уродина?
Старикан разбирал постель и знай помалкивал.
— Дядя!.. Да у тебя глюки! У тебя как молодая — так и красивая! Прямо поле чудес!
Смеялся:
— Ну-ну, дядя! Ну-ну, Петр Петрович!.. Тебя послушать, у вас здесь самые клевые телки! И что ни лунная ночь — выборы «мисс Европа»!
И смолкший парень решительно отвернулся к стене, чтобы заснуть наново.
Старикан на своего не обижался, еще чего!.. А красота молодости для него и впрямь красота. Выше, чем красота правильных черт лица. Старый Алабин мог бесконечно рассматривать (скажем, в метро, незаметно... полуприкрытым глазом) всякое молодое женское лицо. Станция за станцией... Пролет за пролетом... И ведь сразу находил! Глаза! Живые глаза!.. А очерк губ. И почти всегда (всегда! если только не мешает зимняя одежда...) изгиб шеи.
Он и не думал Олежке отвечать! Он только буркнул именно что-то насчет изгиба молодой женской шеи... Все пытался зачем-то его убедить — мол, да, да... мол, красивая!
Олежка однако вновь вздернулся... 28-я дача, что ли? Аней зовут?
Старикан довольно равнодушно сумел сказать — нет, нет, моя старше. В другом даже конце поселка. Какая там Аня!
И все равно тот не мог успокоиться... Старый Алабин уже спал. Но слышать слышал. Молодой бугай ворочался, мял так и этак подушку... Осень началась с жарких дней. Ночи теплы! Это к любви.
Олежка и с утра продолжал.
— Дядя. Вам отшибут голову, — уверял он с нарочитой серьезностью.
Несколько странную (тут Алабин с ним согласен!) лунную озабоченность своего дяди Олежка оценивал как смешной стариковский облом — как забавную, запоздало выраженную шизоидность.
— Вам, Петр Петрович, совершенно нельзя видеть женщин.
Олежка уезжал — он оставлял дяде хорошей колбасы, ветчины. Одну колбаску они тут же красиво порезали... Открыли бутылку.
Выпивая, Олежка посмеивался:
— Ваши подвиги войдут в легенду. Вы, дядя, будете как герой... Как Лука.
— Лука?
— Именно, именно Лука... Мудищев.
На все это старый Алабин, конечно, возражал. Держа в руке стакан с вином, вяло, впрочем, он возмущался:
— Какой там герой... Какие подвиги, мой мальчик. Свеча догорает — вот и все.
Они чокнулись и выпили.
— Огарок... Когда свеча догорает, она потрескивает. Вот и все.
— Но у вас, дядя, она потрескивает отлично!
— Ты, Олежка, молод. Чего тебе здесь киснуть?.. Езжай куда-нибудь в отпуск на юг! Посмотри мир! Людей!
— Чего бы и вам не поехать?
Олежка разлил еще по стаканам... А Петр Петрович, изготовясь пить, шумно вздохнул:
— Я стар... Ни денег, ни большого здоровья... Я только и могу толочь ступу в одном месте.
Молодой Алабин опять засмеялся:
— Вы ее очень неплохо толчете, дядя!
На что Петр Петрович только махнул по-стариковски рукой — чего уж там!
Он пошел проводить Олежку. Да, да, после обеда... Петр Петрович проводил его до электрички. Мимо Аниной дачи.
Олежка, видимо, припомнил все-таки вчерашнее свое подозрение насчет Ани. Но смолчал.
Петр Петрович тоже шел молча.
Зато возле угловой дачи старый Алабин заговорил:
— Осторожней. Здесь, Олежка, осторожней.
— Что такое?
— Забыл?..
— Что я забыл?
— Лушака... Не подходи близко к его забору, — предупредил Петр Петрович второй уже (если не третий) раз.
На углу горбатился плохонький дом Лушака, таково было прозвище здешнего затворника. Этот Лушак, как все знали, входил в криминальную группу, день за днем трудившуюся от их поселка совсем недалеко — в Малаховке. Но в последнее время Лушак от своих отошел...
— Он покойник, — небрежно сказал Олежка.
По понятиям той группы, Лушак совершил какую-то немыслимую подлянку. Кого-то сдал... А сам прикрылся. Но дело там всплыло. Малаховских (многих!) менты пошерстили, а Лушака не тронули. И теперь братва, то есть свои же, собирались и впрямь его как-то прищучить — возможно, прикончить.
А сбежать, видно, некуда. Лушак заперся... И пока что стрелял из старого ружья в каждого, кто подходил к забору.
— Давай-ка обойдем. По той стороне.
— Вот еще! — фыркнул Олежка.
Он сделал шаг и молодой крепкой рукой тряхнул калитку. Ни звука в ответ.
Олежка тряхнул еще:
— Эй, Лушак! Жопа рваная!.. Скоро тебя твои достанут. Говорят, твою пульку уже загнали в ствол... Твою пулю, эй, Лушак!
Из верхнего окна раздались-таки выстрелы. Дважды... Но пули щелканули по штакетнику аж в нескольких шагах, далеко!.. Не стрелок.
Оба Алабина резво отскочили, отбежали от забора.
— Эй, мазило! Пьянь! Протри глаза! — кричал Олежка.
Старый Алабин не комментировал, но, если честно, его резанула жест-кость Олежки. Резанул тон, насмешка над загнанным в угол человеком... Пусть даже подлым... Впрочем, у молодых Алабин такое встречал не раз.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Третий час ночи. Пора... Луна уже не выкатится круче. Свет ее не станет выше.
С ключом от веранды небольшая заминка. Замок, что ли, сменили... Бородка цепляла, пришлось ее пораскачивать туда-сюда. Напрягая пальцы. С усилием... Топчась на месте, старый Алабин шумно втягивал ноздрями воздух... Именно тут (но еще больше, когда вошел) ему почуялся уловимый запашок застоя. Мельком Петр Петрович подумал, что наверху, быть может, расчехлили что-то... Из старой мебели.
Не скрипнув (да и не дыша), он поднялся по лестнице. Сердце билось. Вот комната... Здесь... Он был в шаге от Ани. Спящая, она опять давала ему его счастливый шанс.
Что ни говори, чудесный, удивительный миг!.. На этот раз Петр Петрович был чрезвычайно осторожен, но и не мешкал. Он не прилег сразу, а присел рядом и стал тихо ласкать плечо спящей. Лишь едва касаясь рукой... Вкрадчиво... Плечо — наиболее холодное, наиболее спокойное место на теле женщины.
Ошибку он все-таки почувствовал. Вдруг отпало желание. Прервалось...
И теперь уже волной отчетливый запах старости ударил ему в ноздри.
— Ч-черт!
Женщина проснулась... Включив ночник, она точно опешила. Опешил и Петр Петрович. Впору было смеяться — в постели была та самая Михеевна, уборщица дач, а заодно дачный сторож.
— Чего тебе надо?.. — заворчала она.
Пробормотав какую-то нелепицу, Петр Петрович не просто встал, а быстренько выпрыгнул из постели. (Он ошарашенно думал, не ошибся ли он и впрямь дачей.)
Старуха со сна тем временем шумела:
— Шустрый какой. Козел!.. Сначала надо поухаживать, а уж затем ночью к женщине идтить!
И тут она вдруг живо вскрикнула — узнав его.
— А-а, полночник. Ты-ы? — протянула Михеевна (полностью ее звали Аннета Михеевна).
— Я. Это я... Успокойся.
Смешно сказать, но в тот смутный миг Петр Петрович едва не спросил, здесь ли проживают Костровцевы... Но, конечно, не спросил. Не желая себя (и главным образом Аню) выдать.
Анекдот!.. А хорош бы он был сейчас сходу раздевшись! Уже не сдерживаясь, Петр Петрович громко матюкался.
Старуха же, развернув в его сторону ночник, смело его разглядывала:
— Полно-оочник. Видать, нравлюсь тебе — а?
Осклабилась:
— Ну, ладно, ладно. Иди, иди сюда. Больно ты настойчивый.
Петру Петровичу было, однако, совсем не смешно. Не до ерничества было... Он схватил со стола принесенные Ане цветы — он не желал оставить старухе.
Уходя, все-таки спросил (для отвода глаз):
— Чья ж дача?
Старуха охотно пояснила — ошибся, ошибся! Здесь дача Костровцевых. Но самих Костровцевых нынче нет.
— Нынче они в городе.
— С чего ты в их постель забралась? — спросил Алабин, сердце его екнуло.
— А мягкая. Хочешь, сядь-ка спробуй... Мя-агкая!
Старуха зевнула:
— Не заругают... Завтра уже всё... Завтра они, может, и вовсе уезжают. Так сказали.
— На юг?
— На юг... А я сторож. Дача-то новая, с мебелями. И пограбить запросто могут. Ты-то не затем ли самым пришел? — Это она так веселилась — смеялась, видя, что ночной гость уже шагнул к дверям.