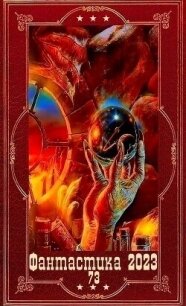Мальчики и другие - Гаричев Дмитрий Николаевич (книги бесплатно без .TXT, .FB2) 📗
Мокрый ком все ширился внутри, и Аксель расстегнулся, освобождая для него место, а спустя еще несколько шагов совсем выбросил куртку; после городского огня снег, лежащий теперь перед ним, казался почти асфальтовым, а на том берегу просто черным. Спустившись к самой реке, он украдкой, как будто кто-то мог это заметить, посмотрел влево-вправо, проверяя, не движется ли к нему поезд, и, убедившись, что все хорошо, снял с себя что еще мешало и лег на спину, а руки раскинул, он давно не лежал так по ночам. Прежняя звезда, еще из П-ва, все так же дрожала одна в замороженном небе, подвинувшись чуть на восток или запад, он не разбирался: Аксель как мог покивал ей, лег все-таки на бок и скоро уснул.
Цветение печали
Возмужав, мы вернулись на те же лодочные станции, где сновали в прежние годы, слушая пустой кандальный лязг: лодок здесь так и не завелось, воду укрывала столетняя пыль, в изголовье пруда стоял ровный, как стекло, туман. В детстве мы рассказали здесь друг другу достаточно бредней о сомах, стерегущих подводные клады староверов, об утопленных детях, вмешивающихся в чужую игру, и теперь оба делали вид, что не помним об этом. На другом берегу белел вытертый пляж, за ним высоко хлопало стрельбище, следом поднимался грядами лес, за которым не было уже ничего.
Те полтора года молчаливой розни, что остались у нас позади, я провел в тусклых хлопотах: умер живший на отшибе города отец, нужно было расчистить под сдачу квартиру, забитую под потолок коробами с приборами, мертвыми лыжными мазями и неясными радиодеталями; разумеется, все нельзя было просто снести на помойку, мы искали, кто купит хоть что-то, и дело затягивалось бесконечно. Это был унизительный труд, не принесший нам почти ничего, и мне совсем не хотелось говорить о нем: мой товарищ заслуживал лучшего, и я врал ему о почти напечатанных книгах и подругах, с которыми почти смог переспать.
Он стоял рядом твердо, как крепостная башня; во всем городе едва ли мог найтись человек, способный его пошатнуть, кроме разве что Виктора, занимавшегося с матерью: тот знал нужные точки на теле, а пальцы его вязали узлы из десятисантиметровых гвоздей. Мать же бесстыдно пила с самого развода, и Виктор, друг путаной юности, вселялся к ней раз в полгода на пару недель, объявлял сухой закон, учил как-то дышать, менял краны и за кадык сводил с лестницы поселковых собутыльников. От него мой товарищ получил в подарок остяцкий нож и самодельную книжку Рериха, которыми дорожил так же, как дедовой «Лейкой», уже несколько десятилетий сиявшей без дела за дверцей серванта. Выдержки Виктору, как уже было сказано, хватало ненадолго, и скоро он выметался прочь, в знак отчаяния обрывая занавески, а то обдирая обои; товарищ поправлял поврежденное и какое-то время пытался удерживать линию санкций, но мать неумолимо соскальзывала в обжитую пропасть, все было напрасно. Прошлой осенью она иногда попадалась мне у их подъезда, завернутая в пальто, как в кусок рубероида. Сосредоточенно-плывущее лицо ее всякий раз было обращено к недостроенному бассейну на другой стороне улицы, словно она пыталась и все не могла прочесть черную надпись на кирпичной стене:
Я двигал мимо, не стараясь понять, узнавала она меня или нет. Я был зол на них всех: на нее, на стариков, растивших ее сына и неспособных объяснить ему, как он был мне нужен; никто не догадывался, что от нашей размолвки смысл исчез из всего, что вообще было в городе и еще могло в нем появиться. Он отпал от меня в конце долгого глупого года: весной и летом я еще как-то смирялся с его бесконечными выездами в соседний Посад к подцепленной на концерте дешевке, но осенью он стал дополнительно пропадать на гитарных чердаках близ полигона, и это оказалось окончательно невыносимо. Задыхаясь от злости, я однажды поднялся с ним в черное место, где подонки с улыбками демонов переставляли короткие пальцы на грифах, и провел там весь вечер: я не понимал их разговоров, не знал, что мне делать, но он, сидящий рядом в дутой куртке, он принадлежал им, огромный, темный. Когда он брал инструмент в свои руки, мне казалось, что я рассыпаюсь в мелкий сосновый песок. Мы возвращались к себе через залитый луной лес, досада донельзя разбухла во мне, и посередине дороги я рухнул спиной в снег, чтобы мой товарищ наконец остановился; пролежав молча несколько секунд, я заголосил: кто, кто вся эта петушня, зачем, зачем ты с ними; ничего толком не отвечая, он потянул меня встать, и я, рассвирепев, сдернул с него шапку и бросился с ней в деревья, ненавидя его и себя.
Он настиг меня в два-три прыжка, опрокинул в ледяные кусты и блестяще вырвал шапку из вспорхнувшей руки. Лишенный всего, я улегся глубоко в снегу, готовый покончить тут же, но он впрягся и поднял меня на ноги, и весь оставшийся путь корил за безрассудство, живописуя в подспорье кошмар менингита: бабушка была врач, он знал толк в страшных кончинах. Его рассудительность заново укладывала меня в ватный гроб, из которого я только что был добыт. Поздние огни проступающего поселка сочились детсадовской мýкой. Выбравшись из лесу, мы холодно разошлись по домам и с тех пор не звонили друг другу, а встречаясь раз в месяц на улице, просто кивали и шли себе дальше.
Следующей весной, после смерти отца, я много скандалил в школе, исцарапывал парты кинжальным углом железной линейки, навязывался в недалекие компании, ничем не лучшие, чем та чердачная свора, приставал к самым униженным и проклятым, надеясь разведать затравленное течение их пуганых душ, но ни в чем особенно не преуспел. Палачи были тупы, а жертвы совсем безнадежны. Серые пришкольные яблони, где меня когда-то радостно валяли всем классом после уроков, не внушали мне больше ни печали, ни ярости. Еще через год, не ломая многих копий, я поступил на незавидный филфак, с сентября его могучая глушь раздалась в полной мере, и мне было светло и никчемно в обратных электричках, с голым карандашом против Софокла и Еврипида, более никому не известным на всем направлении. Закрыв глаза, я видел, как слова опадают вглубь меня, словно листья в открытую шахту лифта, и мне было спокойно от мысли, что та никогда не наполнится.
Спустя две недели, шагая домой со станции, я разглядел моего большого человека: он ожидал автобуса в центр, один среди сдавленных пенсионеров, в толстовке с анархией, длинные его волосы стекали свободно. Я спускался к нему с моста, истощенный чтением, оставляя за спиной клонящееся вечернее небо, и то, как все это должно было выглядеть, подстегнуло меня: достигнув остановки, я приблизился к нему вплотную и уперся головой в теплую грудь. Товарищ захлопотал надо мной, как Антигона, он был заметно тронут и растерян, как будто боялся, что скажут о нас колышущиеся пенсы, но я не отнимал от него головы. Все разрешил подоспевший автобус; мой большой человек обещал позвонить завтра же, завтра, и наконец мягко отстранил меня и полез в транспорт, держа наготове социальную книжку, удостоверяющую потерю кормильца. Его отец умер давным-давно.
Назавтра настала суббота, и он честно набрал меня в десять утра: мы ушли на пруд со счастливо пустыми руками, как в каком-нибудь детском году. За те месяцы, что мы провели без возможности приглядеться друг к другу, лицо его налилось мутной тяжестью, видимо, от сигарет: было сложно испытывать прежнюю нежность, но этот подкожный свинец, накопившийся в нем, был и ясным свидетельством долгой разлуки, неизвестно кому из нас давшейся легче. Он рассказывал, чтó научился играть, как будто протягивая к нам нить, оборванную той зимой; его былые чердачные подельники отвалились, но завелись новые, и я был признателен ему уже за то, что он не угрожал нас познакомить. Та, к которой он ездил в Посад, кончилась еще раньше, чем те с чердака; после нее он попробовал еще нескольких из других городов, но все они были вполне одинаковые и в конце концов утомили его: на девятое мая он в последний раз выехал в Щелково и с тех пор больше не занимался таким. Его оставляли ночевать в дружеских проходных и зрительных залах, и он засыпал, гоняя в плеере очередную самопровозглашенную дичь, подсунутую местными. В прошлый Новый год до него докопались в Лосино-Петровском, он размазал двоих и не стал догонять третьего (он же не снял с тебя шапку, сказал я, и он улыбнулся), и, опасаясь засады, возвращался полями почти наугад, промерз и схлопотал воспаление легких; старики выходили его в своей квартире, но, пока это длилось, оставшаяся без присмотра мать запила как еще никогда, и ему пришлось разыскивать Виктора, чтобы привести ее в какое-то внятное чувство. Виктор вряд ли любил ее, у него был другой интерес; он спал на полу рядом с ее кроватью, водил ее в лес и на баскетбол, читал с ней Куприна и Андреева, почти точно заранее зная, что у него ничего не получится. Они стоят друг друга, внезапно произнес мой товарищ, и я еще острей понял, как мне его не хватало.