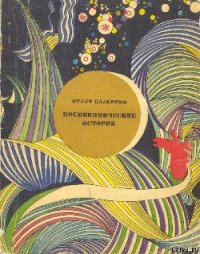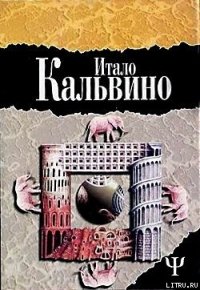Если однажды зимней ночью путник - Кальвино Итало (читать книги онлайн без .TXT) 📗
— Думаешь, я в твоих руках? Ошибаешься! — и впивается острыми ногтями мне в лицо.
Она в плену вместе со мной? Она моя пленница? Она и есть мой плен?
Открывается дверь. В комнату входит Эльфрида.
— Я знала, что ты в опасности, и сумела тебя спасти, — говорит она. — Прости, что получилось грубовато, но у меня не было выбора. Ну вот, а теперь я запуталась в этой зеркальной клетке. Где же дверь? Скорее, как отсюда выйти?
Глаз и бровь Эльфриды, ее нога в облегающем сапоге, уголок рта, тонкие губы, ослепительно белые зубы, рука с кольцом, сжимающая револьвер, увеличенно размножены зеркалами; искривленные части ее фигуры перемежаются с беспорядочными обрывками тела Лорны, образующими пейзаж из живой плоти. Я не в состоянии различить, где начинается одна и кончается другая; я растерялся, кажется, что я потерял самого себя; я не вижу собственного отражения; повсюду только они. У Новалиса очарованный юноша находит священную обитель Изиды и приподнимает блестящий покров богини... Сейчас мне чудится, что все вокруг есть часть меня самого, что я сумел стать всем, наконец-то...
Глава VIII
Уединенный домик в горной долине. На веранде шезлонг. В шезлонге молодая особа. Она читает. По утрам, прежде чем сесть за работу, некоторое время смотрю на нее в подзорную трубу. Воздух здесь чист и прозрачен. В этой неподвижной фигуре я точно улавливаю скрытое от взора движение. Чтение. Скользит по строчкам взгляд, следом поспевает дыхание. Скользят слова: текут и приостанавливаются, бурлят и сочатся. Замирают. Внимание то возрастает, то ослабевает. Чтение обращается вспять. Внешне плавное и однообразное, его течение оказывается переменчивым и строптивым.
Признаться, я уже не помню, когда читал просто так. Листаю чью-то книгу, а думаю только о том, что должен написать сам. Оборачиваюсь к письменному столу. Он ждет. В машинку заправлен лист бумаги. Главе не терпится начаться. С тех пор как я стал невольником писания, чтению ради удовольствия наступил конец. Все, что я делаю, я делаю ради того душевного состояния, в котором пребывает сейчас молодая особа в шезлонге, выхваченная оптическими стеклами моей подзорной трубы. Мне это состояние, увы, заказано.
По утрам, прежде чем сесть за работу, я смотрю на особу в шезлонге. Благодаря сверхъестественным усилиям, предпринимаемым мною во время писания, эта женщина начинает дышать, говорю я себе. Процесс чтения становится для нее естественным процессом. Течение фраз проходит через порог внимания, ненадолго задерживается, пока не впитается ее сознанием и не растворится, обратившись в одной лишь ей присущие грезы и непередаваемые образы.
Временами меня охватывает нелепое желание: вот если бы она читала сейчас именно то, что я только собираюсь написать. Эта мысль настолько соблазнительна, что я начинаю в нее верить. Быстро записываю фразу, бросаюсь к окну, навожу подзорную трубу и смотрю, как отзывается написанное мной в ее взгляде, изгибе губ, в том, как она закуривает, усаживается поудобнее, скрещивает или вытягивает ноги.
Временами кажется, что между тем, что я пишу, и тем, что она читает, — неодолимый путь. Что бы я ни написал, все выглядит натужно и несуразно. Выступи моя писанина на гладкой поверхности страницы, которую она читает, — это было бы как ножом по стеклу, она наверняка зашвырнула бы книгу куда подальше.
Временами начинаю верить, что молодая особа читает поистине мою книгу. Я давно уже должен ее написать, только чувствую, что так никогда и не напишу. Вот она, эта книга — от начала до конца, — лежит себе на дне подзорной трубы; но я не могу разобрать, что там написано, не могу узнать, что написал тот я, которым я не сумел и не сумею стать. Бесполезно снова садиться за письменный стол, силиться разгадать и записать мою настоящую книгу, прочитанную ею: что бы я ни написал, все это будет грубой подделкой моей настоящей книги, которую никто, кроме нее, не прочтет.
А что, если подобно тому, как я навожу подзорную трубу на нее, когда она читает, молодая особа наводит подзорную трубу на меня, когда я пишу? Сажусь за письменный стол спиной к окну и чувствую, что на меня смотрят. Заплечный взгляд вбирает в себя поток слов, уносит повествование по неизвестному мне руслу. Читатели — это мои вампиры. Чувствую, как стая читателей склонилась надо мной и впивается взглядом в слова, еще не застывшие на бумаге. Не могу писать, когда на меня смотрят. Тогда написанное перестает быть моим. Хочется исчезнуть, оставить их алчным взглядам лист, заправленный в пишущую машинку. На худой конец, пусть пожирают глазами мои пальцы, тюкающие по клавишам.
Как дивно бы я писал, если бы меня не было! Если бы между чистым листом бумаги и клокотанием слов и сюжетов, обретающих форму и тающих, так и не дождавшись своего запечатления, не возникало бы это обременительное средостение, сиречь я сам! Мой слог, мой вкус, мои убеждения, моя самость, моя культура, мой жизненный опыт, мой склад души, мой дар, мои излюбленные приемы — все, что делает узнаваемым мое писание, мнится мне тесной клеткой. Будь я просто рукой, обрубком, способным лишь водить пером... кто двигал бы этой рукой? Безликая толпа? Дух времени? Коллективное бессознательное? Не знаю. Я думаю о самоупразднении не для того, чтобы стать глашатаем определенного умонастроения. Единственная моя цель — передать на письме описуемое, ожидающее своего описания; рассказать то, о чем никто не рассказывает.
Молодая особа, которую я рассматриваю в подзорную трубу, наверное, знает, о чем я должен написать. Точнее, не знает и ждет, когда я напишу то, чего она не знает. Она лишь чувствует пустоту ожидания. Пустоту, которую должны заполнить мои слова.
Временами я думаю о содержании еще не написанной книги как о чем-то уже существующем. Это передуманные мысли, произнесенные реплики. Все, что должно было произойти, — произошло; в известных местах и при известных обстоятельствах. Выходит, книга — это не что иное, как письменное отображение неописанного мира. А иногда мне кажется, что ненаписанная книга и существующий в реальности мир как бы взаимодополняются. Тогда книга становится описанной, оборотной стороной неописанного мира. Ее содержание — это то, чего нет и не может быть до тех пор, пока не будет описано; и в том, что есть, без этого подспудно ощущается пустота и незавершенность.
Словом, я так или иначе хожу вокруг мысли о взаимозаменяемости неописанного мира и книги, которую должен написать. Именно поэтому писание представляется мне делом настолько тяжким, что может попросту раздавить меня. Подношу подзорную трубу к глазу и направляю на читательницу. Перед ее лицом, над книгой, порхает капустница. Что бы она сейчас ни читала, ее вниманием всецело владеет бабочка. Неописанный мир находит в этой бабочке свое наивысшее выражение. Делаю вывод, что и я должен стремиться к некой точности, собранности, легкости.
В очередной раз взглянув на особу в шезлонге, я вдруг захотел писать «с натуры»; иными словами, писать не ее, а то, как она читает; писать все что угодно, лишь бы это проходило через ее чтение.
Вот и на мою книгу села бабочка. И снова хочется писать «с натуры», теперь уже всматриваясь в бабочку. Скажем, описать зверское убийство, но так, чтобы оно «походило» на бабочку, выглядело бы таким же изящным и легким, как бабочка.
Я мог бы описать и бабочку, но помня о сцене зверского убийства. Тогда бабочка превратилась бы в нечто чудовищное.
Сюжет для рассказа. Два писателя живут каждый в своем доме по обе стороны горной долины и подглядывают друг за другом. Один писатель привык работать по утрам; другой — по вечерам. Утром или вечером тот из них, кто не пишет, наводит подзорную трубу на того, кто пишет.