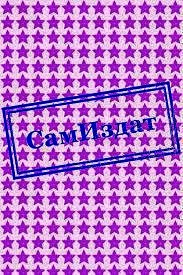Трактат о лущении фасоли - Мысливский Веслав (книги бесплатно без txt, fb2) 📗
На одной стройке, например, работал студент-философ. Когда началась война, почти окончил университет — оставалось сдать один экзамен. А после войны он выучился на паркетчика. Даже стал бригадиром, я с ним немного дружил. О, пил он по-черному. Голова была крепкая, не только по части философии. Однажды за выпивкой стал рассказывать об этой своей неоконченной учебе, и кто-то его спросил:
— А почему ты не окончил университет? Мог ведь после войны сдать. Один экзамен — что такого?
Глаза у него налились кровью, а мы даже еще не были особо пьяными.
— А на кой черт! К чему мне философия после всего этого?! Ни один разум не в состоянии это постичь! Никакие Платон, Сократ, Декарт, Спиноза, Кант! Пошли они все к чертовой матери! — И грохнул стаканом по столу.
Мы переглянулись, потому что никто из нас не знал, кто все эти люди и чем они ему так досадили. Спросить тоже никто не осмелился — может, полагается знать. Один только заметил:
— Видать, повсюду встречаются сукины дети. Не только на стройке. — И налил ему полный стакан. — На вот, выпей.
Поверьте, если бы я не работал на стройке и... ну да, если бы не пил... Во всяком случае, жизни меня научила стройка. Причем разные люди, которых я там встретил и которых больше нигде бы не встретил. О, я им многим обязан. Я вам так скажу: любому из них могло не хотеться жить. Были на то причины. И все же они жили. За это я им больше всего благодарен, хотя может показаться — цена слишком велика и взаймы взять негде, жить все же следует. А самое главное, я убедился, что не являюсь исключением. Или что мир состоит из исключений. Но это выяснялось только за рюмкой. Как тут было не пить?
Например, работает в хозяйственном отделе — мыло выдает, полотенца, резиновые сапоги, рукавицы, кто угодно это делать может, а за рюмкой выясняется, что человек-то непростой. Или еще: экскаваторщик, кроме экскаватора, кажется, только выпивка его интересует, а после пары бутылок смотришь — стихи на память читает или Цицерона на латыни шпарит. Под водку, мы, кстати, охотно слушали.
На другой стройке работал бывший полицейский. Не знаю, согласитесь ли вы, но мне кажется, любые изменения в мире начинаются с полиции. Ему пришлось скрываться, потому что во время войны он тоже был полицейским, по приказу Сопротивления. Естественно, документа, который можно было бы предъявить после войны, у него не было. Кто бы ему такую бумагу выдал? Еще скажите, с печатью... Те, кто мог подтвердить, вроде погибли. Да и сколько их могло быть? Два-три человека, не больше. Так что после войны он постоянно менял место жительства — следы путал. И за это время освоил несколько профессий. На нашей стройке работал, к примеру, штукатуром. Но мне кажется, он слишком много пил. А напившись, начинал драть на груди рубаху и орать так, что уши закладывало: мол, Сопротивление ему приказало. Когда пьешь, тоже надо знать пределы откровенности. Я никогда не говорил слишком много, максимум — как там было на предыдущих стройках. А он начинал себя жалеть и пошло-поехало: Сопротивление приказало, да еще клялся Матерью Божьей Остробрамской, что тем более могло показаться подозрительным, потому что Матерь Божья Остробрамская уже стала как бы не наша. Полицейский, а пить не умел.
Были и такие, что напивались вусмерть, запивая, возможно, большие несчастья, так что сердце у них едва не разрывалось от откровенности, но не говорили ни слова сверх того, что хотели сказать. О, кто пьет по призванию, а не от случая к случаю, тот знает, как сказать много и при этом не сказать ничего, как смеяться, когда внутри не до смеха, как во что-то верить, когда ни во что не веришь, даже в новый, лучший мир.
Я не знаю, что случилось с тем полицейским, потому что вскоре перешел на другую стройку. Без всякой причины. Может, решил, что на другой стройке буду меньше пить или вообще брошу. Впрочем, когда я задерживался на какой-нибудь стройке, мне начинало казаться, что она меня поглощает, засасывает.
Я не выдерживал и переходил на другую. Вы можете подумать, что, как всякий юнец, я был нетерпелив. Вот и нет. Просто не умел привязываться к одному месту. И даже боялся этого.
Нет, тут у меня проблем не возникало. Я был хорошим электриком. Меня ставили на самые сложные проводки. Новые станки, оборудование подключить — всегда я. Не было аварии, с которой я бы не справился. Благодарностей выслушал, дипломов наполучал... Ни одна премия мимо не прошла. Или если, например, что-то у директора в квартире ломалось, всегда меня звали — по просьбе директора или его супруги. Кто угодно бы справился, подумаешь — утюг или чудо-печка, а то и просто лампочка перегорела, но звали меня.
А вы часто работу меняли? Никогда? Как это возможно? Вам так нравилось на одном месте? И где же вы работали, если позволите спросить? И что, повыше не стремились подняться? Я этого не понимаю. Ведь каждому хочется подняться хотя бы на одну ступеньку выше. Для большинства людей это цель жизни. А вам было все равно? Тогда я вообще ничего не понимаю. Что это за учреждение или предприятие? Не можете сказать? Понимаю. В таком случае, простите, что спрашиваю.
Мне нигде не было лучше. Не в этом смысле, зарабатывал я как раз все лучше. Может, меня немного подталкивала мысль о том, что там, куда я перехожу, по крайней мере, будет иначе. Но везде оказывалось одинаково. Пили, как на предыдущей стройке. И я окончательно спился.
Только на той стройке, где я играл в оркестре и с этим кладовщиком познакомился, проработал до конца строительства. Хотя строительство тянулось бесконечно.
Сейчас... которая это была стройка? А впрочем, какая разница? Там работал один парень, трудно назвать это работой, он записывал сверхурочные. Мы ничего о нем не знали. Он даже не вызывал к себе интереса — кто, что... Подумаешь — записывать сверхурочные... Водку почти не пил, разве что мы его звали, когда оказывалось, что он все честно посчитал.
Однажды приехали на машине двое гражданских, и один военный и спросили его, он ли это. Он. Ему скрутили руки, надели наручники. Затем затолкали в машину и рванули с места. Больше он к нам не вернулся. А мы так и не узнали, кто это. Записывал сверхурочные, вот и все.
Конечно, мы могли бы сами задуматься, потому что он всегда был прилично одет — пиджак, галстук, брюки отглажены, — хорошо выбрит, одеколоном пахнул. Женщинам, будь то уборщица или главбух, непременно целовал ручку. И о женщинах выражался исключительно: прекрасный пол. Прекрасный пол, господа. С прекрасным полом, господа. Ни разу ни с кем не перешел на «ты». Может, если бы он чаще с нами пил... Но мы его звали, только когда хотели поблагодарить. Кстати, он был человеком благородным. Хоть это мы его приглашали, всегда приносил с собой хотя бы одну бутылку.
Ага, вот я еще такую деталь о нем вспомнил. В отличие от нас, он никогда не брал рукой колбасу или огурец. Только вилкой. Если его звали, приносил свою, завернутую в салфетку. Я уж, с вашего разрешения, вилочкой, так привычнее. И никогда не ел колбасу со шкуркой. Всегда снимал. Вот я иногда и думаю: может, если бы не эта вилка... Может, если бы он брал руками, как все, если бы не снимал с колбасы шкурку. Иногда вроде мелочь, а словно следы на снегу.
Вот и тот кладовщик. Я, кажется, говорил, что мы тогда строили стекольный завод. Прямо в чистом поле. Зерно почти созрело, но людям не разрешали жать. Мы даже вызвались помочь, жалко было — столько зерна пропадает, а ведь хлеба иной раз не хватало. Нет, план горит. Должны были сдать еще в прошлом году, весной.
Они постоянно нас торопили: быстрее, скорее, выходные, праздники, сдельная работа, сверхурочные, бессонные ночи. Городам нужны стекла, деревням нужны стекла, заводам нужны, школам, больницам, учреждениям, словно все собирались из стекла строить. А у нас — то одного не привезут, то другого не поставят, всё чего-то не хватает, и строительство то и дело останавливалось.
Вот на этой стройке он и служил кладовщиком. Честно говоря, на кладовщика этот человек похож не был. Если бы вы его увидели, не поверили бы, что кладовщик. Сгорбленный, голову еле поворачивает. Ходит так, словно ноги не переставляет, а по земле волочит. Говорили, это последствия войны, допросов. Но он якобы никого не выдал, ни в чем не признался. Уж не знаю, правда это, неправда... Я его никогда не спрашивал, а сам он ничего не рассказывал. Люди тогда не очень любили исповедоваться. Еще он левой рукой плохо владел, а в дождливую погоду часто ее потирал. И тоже ни разу не признался, в чем дело, хотя похоже было на ревматизм. А если его спрашивали, обычно отвечал, что говорить тут не о чем. Правая тоже была не в порядке. Выписывая квитанцию на какую-нибудь деталь, он со всей силы нажимал на чернильный карандаш, чтобы рука не дрожала. И карандаш всегда был коротенький — едва торчал между пальцами.