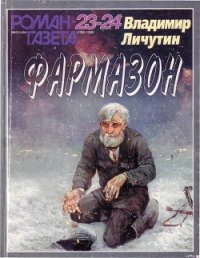Миледи Ротман - Личутин Владимир Владимирович (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные .txt) 📗
Братилов занес ногу над забором и застыл в нерешительности.
– Зовешь-нет? – спросил заискивающе. – Отоварился вот, паек выдали. А одному пить грешно. – Потряс сумкою, чтобы слышен был стеклянный разговор.
Ротман стоял на тропинке, уперев руки в боки, от напряга все его разгоряченное потное тело, несмотря на морось и вечернюю стынь, обрело все цвета побежалости, как раскаленный металл, от сиреневого до багрового и рудо-желтого; в супистых аспидных глазах мельтешили черти. Торчал Ротман, как статуй, но в гости мужика не зазывал и прочь не гнал, не прикрывался срочным делом. Он смотрел на нечесаные соломенные патлы художника, на рыхлое губастое лицо, на нос сапожком и словно бы решал для себя, как ловчее ударить по сопатке, и весь его боевой вид сам собою давал приговор Братилову, де, я бью всего лишь два раза: один по рылу, второй – по крышке гроба.
– Я чего до тебя-то? – с мерзкой для себя, какой-то извинительной слабиною в голосе пробормотал Алексей, думая, как бы ловчее отступить прочь. – Иду, думаю. Вот увижу тебя и скажу: сдохнешь, Ротман, я тебе красивый памятник соображу на могилке. Уже и камень-гранит приспет. Откопал в Инькове ручье, домой приволок, не поленился. Даешь согласие?
– Спасибо, дорогой. Раз без камня за пазухой, проходи, гостем будешь. А тот камень пускай подождет, – рассмеялся Ротман, и смех его походил на серебристое гулькание ручья по камешнику. Не оглядываясь, он повернул в избу, косолапя, странно выворачивая узкие с розовыми пятками стопы, будто к ним пристали комья глины. Ягодицы были как тугие яблоки.
Братилов с интересом оглядел двор. С внутренней стороны к ограде были нарыты земляные террасы, на откосах высажен ягодник. В сторону реки тянулся клин под картошку; трава на замежках взята под косу. Сама же изба зрелище являла печальное, идя к неизбежному концу, и, как древняя старуха, конечно, нуждалась в ключке подпиральной, к участливой верной державе, но, кинутая в сиротстве, уже не ждала подмоги. В свое время была она ставлена с размахом, рассчитана к плаваниям долгим и к зимним осадам жестоким; все подызбицы и клети, подклети и хлевища, овечьи стайки и крыльца, взвоз и поветь рублены из леса кондового, зрелого, и сейчас в трещины, взорвавшие каждое бревно, можно бы с легкостью засунуть кулак, но так и не дотянуться сквозь коричневую стариковскую болонь до самого сердца. Каждая лесина в мужицкий обхват и более была сплавлена откуда-то с верховий реки, вытартана на лошадях в подугорье, потом по слегам выкачена наверх и тут, на лежбище, протомившись с год в штабелях, ошкуренная и отглаженная теслом, уютно легла в клети; курицы, и желоба, и охлупень, и тесовая крыша и поныне имели вид хоть и седатый, припечалованный, но явно богатырский и оттого еще более жалкий, всем своим обликом обнаруживая, что жизнь покатилась, и назад ее при всех усилиях не вернуть.
Изба хранила в себе предание и тем более понравилась художнику. Ее можно было рисовать и в утренних зорях, когда первый солнечный луч из-за великих тундр ударяет в боковую стеклину, и в хмурый полдень, посекновенную дождем, и в пуржистые сумерки, когда каждое бревно заиндевело, поседатело и с водостоков, как старческие брови, свисают козырьки снега, и в летнем вечеру при багровых полотнищах заката, когда огняные перья дальнего небесного пожара подпаляют косящатые красные окна в коричневых окладах, похожие на мутные образа. Это было воистину богатство, да еще какое; и подымаясь в дом по ребристому взвозу, покрытому зеленым мхом, на поветь, куда скрылся хозяин, Братилов невольно позавидовал ему. Воистину, на Шанхае мог жить только поэт или художник...
Братилов знал за собою такую ушибленность: каждое новое место в мельчайших подробностях принимать в себя, словно бы именно здесь придется доживать крайние сроки. Нет, он не шпионил за людьми, не выуживал что-то по комнатам, чтобы после скрасть, не выведывал семейной тайны, но каждый раз в чужом дому ходил, как по таинственной скрытне, в которой навсегда запечатлелись в мелочах ушедшие времена. Любопытной душе именно старые вещи вдруг обнаруживали себя с особенной стороны, с изнанки, словно бы они изживали себя лишь вовне, но всю глубинную суть сохраняя для любовного чистого глаза... Бурак ли берестяной полуведерный, с которым ходили по морошку, задубевший, закоревший, покрывшийся рудяной ржавчинкой, или расписная дуга с блеклыми наивными цветочками и медяным кольцом, куда вдевался конец уздечки, иль короб пошевней в углу, когда-то гордоватый, помнивший еще заполошный бег жеребца, а ныне как бы задымевший от старости, с лукавыми розами на досчатом задке, или сетные переборы с глиняными кибасами, похожие на таинственные зеленоватые шторы, вечно колышащиеся от сквозняков, скрывающие за собою особенную загадку. Все эти простецкие крестьянские вещи хранили в себе норов хозяина, его стать, его взгляды, его дыханье. Братилову казалось, что во всем этом он жил когда-то, все побывало в его руках, помогало кормить семью, обряживать усадьбу и хлевища, и капустища с репищами, вести рыбные и звериные ловы, катать валенки и вязать невода, ладить столярку и гробишки, ковать лошадей и подрезать копыта у коровенок, толочь зерно и просеивать муку, смолить прядено и тачать бахильцы, подшивать ребячью обувку, подрезая дратвою горящие от вара и кожи ладони... Трудно было вести дом, но и ладно с Господом за плечами, пока здоровьишко есть, пока блюдется в хозяйстве чин, и сыновья к тебе с любовью, и снохи с поклоном, и дочери уважливые, не поперечливые, и большуха не ерестится, помня девьи жаркие поцелуи.
...И-эх, а ныне он, Братилов, как таракан запешный, отерханный и оперханный, один, как лапоть с распущенными оборками, как дырявый опорок-басовик, выпнутый семьею на задворки за ненадобностью, чтобы в той калишке угнездилась на яйца хлопотливая курица.
С другими, братцы, все это было, а с ним, байбаком, ничего не сварилось ни по углам, ни по лавкам, ни в закромах, ни в мыслях, ни в заковыристом деле; нищеброд он, и гол, как сокол.
Житейских бурь не знавал Братилов и вот тешился отголосками чужих страстей, которые, как утренний горьковатый туман, слегка повивали его шалую голову, мутовили неисполненной мечтою накипелое сердце. По всем-то повадкам он рожден был семейственным, рукодельцем, тороватым и гонористым мужичком, любовным до своих милых чад; но то ли еще не проснулся он, и все станется погодя, или тайно сблудил, шатнулся со своей тропы, и вот уже никогда не вернуться на нее, не чаять домашнего лада, по которому, оказывается, так истосковался.
...Эта поветь в храмине уже отличалась от других с первого взгляда, хотя по сторонам Братилов еще и не взглянул: посередке торчал то ли инкрустированный комод из белого мрамора, то ли печурка без трубы, обложенная кафелем; возле козырился березовый стулец, корявый приземистый комель.
«Ага, значит, Милка переехала, – с горечью подумал Братилов. – Приволокли из отцовой избы пианино, здесь музицируют, танцуют в бревенчатой сумеречной зале, обнизав стены восковыми свечами в медных канделябрах. „Половицы по-старинному набраны из толстенных колотых плах, но со временем они расседались, поизветрели, посеклись, расщепились, и в туфельках по ним шибко не поскачешь – значит, выкуделивают в домашних шлепанцах... Да нет, если танцуют, кто на музыкальном ящике тренькать станет? Значит, играют в четыре руки, поставив стоянец со свечою, и при шатком, неверном пламени поют романсы. Не напрасно поговаривают в Слободе, де, ночами в Шанхае волки воют“.
Братилов открыл крышку и, опершись коленом о пенек, одним пальцем выбил «чижика». Он не думал, что ревность до сей поры заедает его сердце. В распахнутые ворота скользил с улицы неверный тусклый свет. Братилов разглядел перед собою дверь, обитую мешковиной, с хомутами соломы по бокам, дернул за ручку, но, как говорится, поцеловал пробой: в проушине, прижавшись к косяку, висел замок. На вышку вела узкая, истертая до корытца лестница; значит, хозяин пропал там. И, действительно, наверху вкрадчиво скрипнуло, зашлепало, показалась на верхней ступеньке босая нога в валяном опорке и клин мохнатого барского халата. У Алексея неожиданно застучало сердце и пересохло во рту: он решил, что на мосту в сумерках стоит Милка – драная курица.