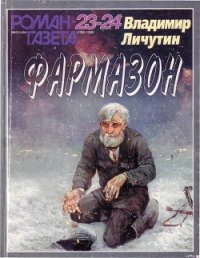Миледи Ротман - Личутин Владимир Владимирович (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные .txt) 📗
– Потом суп с котом. С ним были высокие товарищи, подхватили его под локти да и в черную машину. Повезли на совещание в Политбюро, стихи читать... Ну все, не мешай. Включи-ка лучше глаз бессовестных. Я тебе мало лапши накрутил на уши, так добавят.
Телевизор был крохотный, с кукишок, но такой, дьяволенок, смелой, резал правду-матку на ясном глазу про все, что случилось с Россией, просвещал тупой сонный народ, и ни один, кто попадал в зрачок бессовестных, даже не икнул, настолько бесстрашно врал. Когда человек уверен, что его не заметут, не призовут к ответу, не прихватят за шкиряку, не повесят на фонарном столбе и просто не поддадут в морду за ложь, то он открывает себя в таких глубинах, что только подивишься смелости его; вот он, новый Матросов, что десятки раз, оказывается, кидался на амбразуру и вот уцелел. А кто спас его от смерти, кто зализывал раны – о том молчок. Да и кто призовет к ответу в стране бессловесных, ибо все отодвинуты от трибуны за бронированный щит...
Чем больше тускнел Меченый, лысел до загривка, превращаясь в жука-скарабея, тем более лоснились его подельники, наливались самодовольным жирком и собольей шерсткой: даже взгляд-то стал с неугасающим огоньком, слова с присвистом, речи с протягом и многозначительными фигурами. Вот кто-то белесый, с тусклыми и вороватыми глазами, уже обильно хапнувший, предлагал поставить Меченому в Москве статуй из чистого золота и тут же сделал первый взнос в пуд благородного металла. Его сменил мертвенно бледный и квелый, весь какой-то напудренный с головы до ног господин Шатров и предложил создать общество защиты генсека. Он не пояснил, от кого, но Братилов так понял, что от бесстыдной чеченки, что требовала гнать разрушителя из кресла и отдать под правый суд... Тут в бессовестном желтом глазу появился солидный экономист с видом старого облезлого осла, у него было глиняное тяжелое лицо и оловянный сонный взгляд. Ведущий пояснил, что это академик Абалкин, человек знаменитый; он двигал Россию к высотам в недалеком прошлом и сейчас намеревается спехнуть ее на новые рельсы, но что-то у него плохо получается, и сейчас, из ящика, он сетовал России на ее народ иль жаловался опекунам, что с ухмылкою посвященных слушали его за кордоном. Абалкин цедил драгоценные мысли: «Я не уверен, что нам удастся изменить что-то, ибо русские ленивы».
Братилов оценил его почти детскую искренность и злопамятность: в Союзе двести восемьдесят миллионов едоков, из них лишь треть русских, но ленивы, оказывается, не все, но именно русские. Услужливый скорпион ласково укусил гостя с таким видом, словно бы поцеловал ему руку: «Вы, наверное, чувствуете вину за застой? Вы же тогда были академиком, диктовали экономическую науку, как нам жить». Великий экономист ответил, грустно потупясь: «Вы знаете, я вины не чувствую. Интеллигенты очень стеснительны. Что мы могли сделать? И при всем том, что русский народ исторически ленив...»
Сыто, вкусно в каморе пахло блинами, дерзко, яро шипело постное масло, хлопалась о доску сковорода, а счастливый, наверное глухой, Ротман, розовощекий крепыш с младенчески чистым взглядом сейчас походил на рязанского пасечника, отстоявшего летнюю вахту в липовых рощах и на заливных лугах по Оке. Такая задорная, искристая была у него рожа, и куда-то постоянная синева на скульях делась, уступив место ровному сытому румянцу.
Но, оказывается, этот блинщик все слышал маленьким волосатым ухом.
– Заметь, Братило, столько в стране оказалось правды, что ее невольно хочется продувать, как макароны; а вдруг там сидят жучки-паучки. И что я заметил: возле всякой перестройки всегда плодится муравьиная куча стяжателей; только каждый из них тянет не в общий дом, но в свою норку. И когда многие тянут, то некому ловить. Самое сладкое время для пройдох: если он голоден, то тянет для прокорма, если сыт, то тянет для потомства...
И тут в телевизоре появился духовный пастух политбюро, похожий на перестарка-кабанчика: на взгляд было видно, какое у него жесткое неуваристое мясо, только и проку, что, добавив сальца, пустить на котлеты. Александр Яковлев, ближайший друг генсека, был известен стране, словно народный артист, его любили, им восхищались; этот человек сталинской выковки, поспевший на ярославских хлебах, был жгуч в речах и сверкающ, как булатная сталь. Улыбчивые звероватые глазки, плюшевые бровки, детские ямочки на квадратных щеках так и просили кисти Глазунова. Яковлев пошевеливал собольими бровками, слепо смаргивал колючими глазками и сетовал родимой земле, вскормившей сына своего житенным караваем: «Наш народ невежественный, если хотите, даже темный: он далек от демократии».
Макароны густо обвесили уши Братилова; гадкие, скользкие, они будто змеи болотные обвивались вокруг рыхловатой шеи унылого холостяка и стали душить, жалконького и смиренного. У художника перехватило дыхание, и он, посинев на излете духа, нажал на клавишу.
– Единственное право, которое нам оставили демократы, это право свободно выключать телевизор, чтобы не слушать их мерзостей. Но и это право лишь для сильных людей. Страною пришли править законченные мерзавцы.
– Ага, запел в дуду! – торжествующе захохотал Ротман. – Теперь ты хочешь знать, отчего я стал евреем?
– Нет, не хочу...
– Но вопрос сидит в тебе, как сапожный гвоздь в стельке. И ты уже готов, милый, последовать моему примеру, чтобы махнуть в Израиль. Но только ты рыхлый, слабый человек, в тебе жидкости много. Надо ее выпарить, а духа нет. Мало вас драли, милейший, семьсот лет пороли в хвост и гриву, а все мало. Понял? Нет, не понял, тогда подставляй снова зад, репетиция продолжается. То бишь революция. Плакаты по всей Москве: революция продолжается! А где революция, там торжествуют вши и гной. Только нынче ее затеяли властные люди, захотевшие денег. Много денег! Кучу денег. А вы, кто эту кучу денег нарыл, опять в сторону, вам совестно, вам стыдно ее защищать, у вас душа болит, и вы серку в кусты. А не спрятать, не спрятать! – Ротман снова как-то по-злодейски сгорготал, выпучив аспидные глаза, и счернел лицом, как арап. Нет, как помоечная, назойливо гудящая муха. Тьфу на нее!
Братилов уныло отвернулся, глядя в родимые просторы сквозь заплесневелое окно, и недоуменно вопрошая себя: а зачем явился в эту нежить, обвешанную паутиною, в сердце которой сидит склочный назойливый паук-крестоватик и вяжет тенеты? Сквозь вязкий туман вдруг прободились желанные слова:
– Чего бутылку-то жмешь? Наливай под блинок.
Братилов встрепенулся, добыл из сумки пайковую «горбачевку», ловко сощелкнул с нее блестящую кепочку, разлил в граненые стопки.
– Выпить и забыться, выпить и забыться, – задумчиво протянул Ротман, выставив пред собою стакашек и глядя сквозь него, как в волшебный камень, дарующий неожиданную весть. – А когда забылся, тут тебя в зад. Ха-ха-ха... Теперь понял? Я презираю вас, русских, потому что вы позволяете бесконечно измываться над собою. Вас в один день выдавливают из одного строя в другой, как стадо перегоняют из одного хлева в другой, где еще гаже, где еще срамнее, а вы, лопухи, добровольно плететесь туда. Из одной войны вас засылают в другую, якобы из благих пожеланий, из одних лишений в другие, тупые и бессмысленные. И вы молча сглатываете обиды, когда кучка негодяев и прохвостов, войдя в сговор, снова готовы вас больно пнуть, вывернуть шею и полоснуть ножом, абы топором по загривку. Теперь – обратно из социализма в никуда и напрочь захлопнуть дверь. Я лучше стану евреем, чтобы воспринять их мужество. Это они подхватили зов урусов «и мужество нас не покинет» и сделали своим идолом...
– Ваня, ты больной, – тихо, одними губами прошелестел Братилов, залпом осушил стакашек, крякнул, «закусил» рукавом. И нарочито ухарски, шумно, дерзко, распьянцовски, чтобы заглушить напрасно выскочившие обидные слова.
– И ты, лапоть, ты не можешь даже понять меня, а сразу чтоб нож в горло. Ты не можешь и восхититься. Потому что завидуешь. Потому что раб. Это про вас ежедень толкуют по телевизору, что русские – рабы. Тьфу на вас...