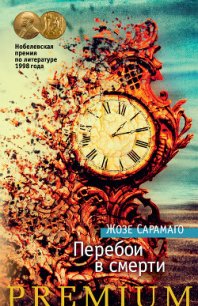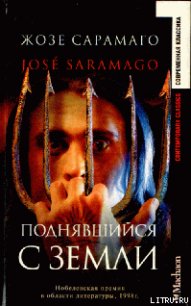Евангелие от Иисуса - Сарамаго Жозе (книга жизни TXT) 📗
«Меня в твои года тоже это весьма занимало». Между тем слушатели, которые начали было, к нескрываемой досаде книжника, привыкшего, как мы бы сейчас сказали, к вниманию аудитории, расходиться, вернулись на свои места, едва лишь раздался голос Иисуса: Я хочу спросить насчет вины. Ты о своей вине? Я вообще о вине, но и о своей тоже: я виноват, хоть прямо и не совершал греха. Говори ясней. Сказано Господом, что отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, и каждого карают за его собственное преступление. Так оно и есть, но только учти, что имелся в виду обычай тех давних времен, когда за вину одного члена семьи платила вся семья целиком, включая невинных младенцев. Но слово Господне вечно и относится ко всем временам, а ты ведь только что сам сказал, что человек волен понести кару, и потому я думаю, что преступление, совершенное отцом, даже если он и сам получил за него наказание, наказанием этим не исчерпывается и переходит по наследству к сыну, подобно тому как мы, ныне живущие, несем на себе бремя первородного греха, свершенного Адамом и Евой. Признаюсь, удивительно мне, что ты, человек столь юный и, по виду судя, простого звания, так хорошо знаешь Писание и так легко отыскиваешь в нем нужное тебе место. Я знаю лишь то, чему научили меня. Откуда ты родом? Из Назарета Галилейского. Я так и понял по выговору твоему. Пожалуйста, разреши мои сомнения. Что ж, допустим, что вина Адама и Евы, ослушавшихся Господа, не столько в том, что они отведали плод с древа познания добра и зла, сколько в проистекших от этого роковых последствиях, ибо они поступком своим вмешались в замысел, который вынашивал Вседержитель, когда сотворил сперва мужчину, а потом женщину. То есть ты хочешь сказать, что всякое деяние человеческое, неповиновение ли воле Господа в раю или еще что-нибудь, всегда соотносится с Божьим промыслом, который я бы уподобил острову, окруженному бушующим морем человеческих желаний? Вопрос этот задал не Иисус — Плотникову сыну на такую дерзость было не решиться, — а тот, кто спрашивал вторым, и книжник, тщательно и осмотрительно подбирая слова, отвечал ему: Видишь ли, дело обстоит не совсем так: воля Божья мало того что преобладает над всем и вся, она и есть источник всего сущего. Но не ты ли сам сказал недавно, что непослушание Адама привело к тому, что мы остались в неведении относительно замыслов Господа в отношении нашего праотца? Да, это так, но в воле Господа, Создателя и Вседержителя мира, содержатся все возможные воли: она принадлежит и Богу, но также и всем людям — и живущим ныне, и тем, кто будет жить после. Будь так, как ты говоришь, воскликнул вдруг Иисус словно под воздействием некоего озарения, каждый из нас был бы частицей Бога. Весьма возможно, но вся совокупность людей, сколько их ни есть в мире, соотносится с Богом, как песчинка — с необозримой пустыней. Книжник вдруг изменился неузнаваемо — высокомерие его исчезло без следа. Он по-прежнему сидит на полу, окруженный учениками и помощниками, и во взглядах их почтения столько же, сколько и ужаса — они взирают на него как на кудесника, неосторожным и невольным заклинанием вызвавшего из небытия могучие силы, во власти которых пребудет отныне сам. Сгорбив плечи, бессильно уронив руки на колени, он всем видом своим, каждой чертой вытянувшегося лица будто просит, чтобы его оставили наедине с его тоской. И люди начали подниматься — одни направились во Двор Израильтян, другие присоединились к тем кружкам, где еще продолжались споры и толкования. Иисус сказал: Ты не ответил на мой вопрос.
Книжник медленно поднял голову, взглянул на него, как человек, только очнувшийся от глубокого сна, и после долгого, нестерпимо долгого молчания ответил: Вина — это волк, который, пожрав отца, терзает сына. И волк этот пожрал моего отца? Да, а теперь примется за тебя, А тебя-то терзали, пожирали? Не только терзали, не только пожирали, но и извергали, как блевотину.
Иисус поднялся и вышел. У дверей помедлил, задержался, поглядел назад. Дым от жертвенников отвесным столбом поднимался прямо к небесам и там, в вышине, истаивал и исчезал, словно его втягивали в себя исполинские легкие Бога. Утро близилось к полудню, толпа росла, а внутри, в одном из храмовых покоев, ощущая безмерную пустоту, человек с разодранной в клочья душой сидел и ждал, когда нарастет на прежние кости обычное мясо, когда вернется он в свою шкуру, чтобы суметь через час или сутки спокойно и достойно отвечать тем, кто пожелает узнать, например, из какой соли — каменной или морской — состоял столп, в который обратилась жена Лота, или каким вином, белым или красным, упился Ной. Уже выйдя из Храма, Иисус спросил дорогу на Вифлеем, вторую цель своего путешествия, дважды заплутал, свернув не туда, в невообразимой толчее, бурлившей в хитросплетении улочек и переулков, и наконец нашел тот путь, по которому тринадцать лет назад пронесла его, уже стучавшегося в этот мир, Мария во чреве своем. Не стоит предполагать, однако, что он думал именно так, тем более что очевидность и непреложность всегда подрезают крылья вдохновению, и в доказательство приведу один лишь пример: пусть читатель этого евангелия взглянет на портрет своей матери, сделанный в ту пору, когда она его носила под сердцем, и признается честно, способен ли он представить себя у нее в утробе. Иисус между тем шагает в Вифлеем, размышляя об ответах, даваемых книжником, на вопросы — и его, и те, что заданы были раньше, — и ему не дает покоя и смущает душу ощущение того, что все вопросы сводились в конечном счете к одному-единственному, а ответ на каждый годился для любого, особенно же — заключительные и все заключающие в себе слова книжника о том, что волк вины не насытится никогда и вечно будет грызть, пожирать и изблевывать. Зачастую по причине слабости нашей памяти мы сами не знаем — а если знаем, то словно бы стремимся забыть поскорее — причину, мотив, самый корень нашей вины или, выражаясь фигурально, в стиле храмового книжника, — то логово, откуда выходит волк, алчущий добычи. Но Иисус знает, где оно, это логово, он туда как раз и направляется. Он понятия не имеет, что будет там делать, но словно бы хочет объявить всем и каждому: Вот он я, — и спросить вышедшего ему навстречу: Чего ты хочешь? Покарать? Простить? Забыть? Так же, как в свое время родители его, он остановился у гробницы Рахили, помолился и двинулся дальше, чувствуя, что сердце колотится все сильнее. Вот первые домики Вифлеема, куда в еженощных снах его врываются посланные Иродом воины и с ними — его отец, но, по правде говоря, даже не верится, что такие ужасы могли твориться под этим небом, по которому проплывают облачка столь тихие, столь белые, будто сам Господь выказывает им свое благорасположение; на этой земле, нежащейся на солнце, так что невольно хочется сказать: «Ах, да забудем все это, не будем выкапывать кости прошлого», и, прежде чем женщина с ребенком на руках появится у ворот одного из домов и спросит: «Кого ты ищешь?» — повернуть назад, сделать так, чтоб простыли следы, которые привели нас сюда, да уповать на то, что неостановимый ход времени скоро припорошит густой пылью и последнюю память о тех событиях. Поздно, слишком поздно. Еще мгновение назад мошка могла бы спастись, метнуться прочь, но если коснулась она хоть самым краешком клейкой нити, то, как ни бейся, как ни маши ставшими бесполезными крылышками, ничто уже не поможет, и чем яростней будешь метаться, стремясь высвободиться, тем больше будешь запутываться в паутине, пока наконец не выбьешься из сил и не поймешь в смертельном оцепенении, что спасения нет и пощады не будет, даже если паук побрезгует столь ничтожной добычей. И для Иисуса мгновение, когда он еще мог спастись, минуло. Посреди городской площади, под раскидистой смоковницей, стоит нечто невысокое, кубической формы, и не надо с особой пристальностью вглядываться в нее, чтобы понять: это гробница. Иисус приблизился, медленно обошел ее кругом, остановился, читая полустершиеся надписи на одной из граней, и, свершив все эти действия, понял, что нашел то, что искал. Пересекавшая площадь женщина, ведя за ручку ребенка лет пяти, замедлила шаги, с любопытством воззрилась на чужака и спросила: Ты откуда? — добавив, как бы в оправдание своего любопытства: Вижу, не местный. Я из Назарета Галилейского. У тебя здесь что, родня? Нет, я был в Иерусалиме и решил заодно взглянуть на Вифлеем. Так ты, значит, просто мимо шел? Да, к вечеру, когда зной спадет, вернусь в Иерусалим. Женщина подняла ребенка на руки и, произнеся: Господь да пребудет с тобою, — собиралась уж было идти своей дорогой, но Иисус удержал ее, спросив: А кто тут похоронен? Женщина покрепче прижала ребенка к себе, словно защищая от опасности, и ответила: Двадцать пять маленьких мальчиков, убитых много лет назад. Сколько? Я ж говорю, двадцать пять. Лет сколько? А-а, уж четырнадцатый пошел. Действительно много. Столько же примерно, сколько тебе на вид. Я про тех, кого тут убили. Один из них был мой брат. Твой брат тоже лежит здесь? Да. А это на руках у тебя сын? Да, первенец. А за что же убили этих мальчиков? Не знаю, мне в ту пору было семь лет.