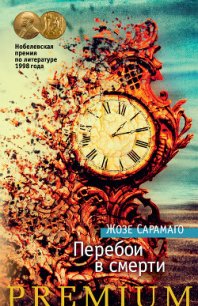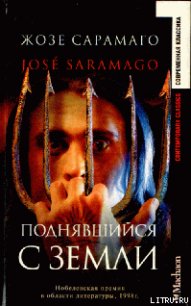Евангелие от Иисуса - Сарамаго Жозе (книга жизни TXT) 📗
Солнце клонилось к закату, тень от смоковницы зловеще придвинулась уже к самым его ногам. Иисус немного отступил, окликнул старуху, и та с трудом подняла голову. Чего тебе? Отведи меня в ту пещеру, где я родился, или, если не можешь, объясни, как найти ее. Мне и вправду трудно идти, сил нет, но без меня ты ее не сыщешь. Далеко она? Недалеко, да там много пещер, и все вроде одинаковые. Тогда пойдем. Ладно уж, пойдем. Люди, которые в тот день видели старую Саломею рядом с незнакомым юношей, спрашивали друг друга, что свело их вместе. Никто так этого и не узнал, потому что старуха хранила молчание в продолжение тех двух лет, что еще отмерены ей были судьбой, а Иисус никогда больше не бывал в краю, где родился. На следующий день после их встречи старуха отправилась в пещеру, где оставила Иисуса, — и никого там не нашла. В глубине души она была к этому готова. Найди она его там, говорить бы им друг с другом все равно было бы не о чем.
Немало уже было говорено о том, что жизнь наша сплетена и соткана из совпадений, но почти никогда не упоминается о тех встречах, что изо дня в день происходят в ней, и это странно, ибо именно встречи определяют и направляют ее, жизнь то есть, хотя в защиту такой, с позволения сказать, ущербной перцепции жизненных возможностей можно выдвинуть следующий аргумент: встреча, строго говоря, есть некое совпадение, из чего, разумеется, вовсе не следует, будто всякое совпадение есть встреча. В нашем евангелии преобладают совпадения, но в жизни самого Иисуса, которой уделяем мы — особенно с того ее часа, когда он ушел из родного дома, — внимание исключительное, не было недостатка и во встречах. Оставляя в стороне злосчастный эпизод с обобравшими его разбойниками, поскольку последствия, которые может иметь эта встреча, еще неразличимы в дымке ближайшего и отдаленного будущего, скажем, что в первом своем самостоятельном странствии Иисусу везло на встречи: были они и часты и удачны — вспомнить хоть самой судьбой посланного ему милосердного фарисея, благодаря которому наш отрок не только сумел утолить снедавший его голод, но и провел за этим занятием ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы появиться во Храме не раньше и не позже, а как раз тогда, когда там звучали речи, подготовившие, так сказать, почву для вопроса, принесенного нашим героем из Назарета, вопроса, если помните, об ответственности и о вине. Ревнители и знатоки строгих правил, по коим должно строиться повествование, скажут нам, пожалуй, что следует чередовать — как это и происходит в жизни — встречи важные и судьбоносные с тысячей других, не имеющих почти или вовсе никакого значения, дабы герой наш не превратился в глазах читателей, буде таковые найдутся, в существо исключительное, с которым ничего пошлого и обыденного случиться не может. Скажут еще, что только так достигнет повествование главной своей цели и столь желанного эффекта жизнеподобия, ибо, если выдуманного и описанного эпизода не было и не могло быть в реальной действительности, надо сделать так, чтобы эпизод этот хотя бы походил на истинное происшествие, хотя бы казался таковым, чего никак нельзя сказать о только что изложенной нами и самым вопиющим образом обманывающей доверие читателей истории о том, как Иисус, не успев появиться в Вифлееме — здрасьте пожалуйста! — тут же нос к носу сталкивается со старой повитухой, своими руками принимавшей его, словно бы встреча и давший ему первоначальные сведения разговор с другой женщиной, намеренно подставленной ему автором, — помните, та, с ребенком на руках? — и так уж не преступали все мыслимые границы достоверности. Но самое невероятное еще впереди: как, скажите, поверить в то, что старуха Саломея проводила Иисуса до пещеры и там оставила его по его просьбе: А теперь иди, я побуду один в этих темных стенах, я хочу услышать свой первый крик в безмолвии, поскольку давным-давно замерло эхо этого младенческого крика, — именно эти слова Иисуса, вроде бы услышанные старухой, здесь и приводятся, хотя они уж просто демонстративный вызов правдоподобию, и, будь автор мало-мальски здравомыслящим человеком, не записывать он должен был бы их, а приписывать — приписывать несомненному старческому слабоумию Саломеи. Так или иначе, но она поплелась прочь, неуверенно передвигая дряхлые ноги, пошатываясь, ощупывая перед тем, как сделать шаг, землю своей клюкой, которую держала обеими руками, и, право слово, достойно поступил бы наш герой, если бы помог добраться до дому несчастной старухе, пошедшей ради него на такую жертву, но все мы в юности себялюбивы и высокомерны, и почему бы Иисусу надо отличаться от своих сверстников?
А он сидит на камне, и стоящая рядом коптилка слабо озаряет бугристые неровные стены, высвечивает более темное, выжженное пятно на месте очага. Он сидит, бессильно свесив тонкие руки; лицо его серьезно. Я родился здесь, думает он, я спал в этих яслях, родители мои сидели на том камне, где сижу сейчас я, здесь прятались мы, пока в Вифлееме воины Ирода избивали младенцев, и, как бы ни старался я, мне не услышать свой первый младенческий крик, не услышать и то, как кричали перед смертью дети, как стенали их родители, у которых на глазах свершалось это, — ничто не в силах нарушить тишину пещеры, где сошлись конец и начало, отцы платят за грехи прошлые, дети — за будущие, так объяснили мне в Храме, но если жизнь есть приговор, а смерть — правосудие, то, значит, никогда еще не бывало в мире никого невинней тех вифлеемских младенцев, что погибли ни за что, и никого не будет виноватей моего отца, промолчавшего, когда надо было говорить, и теперь, даже если в жизни своей не свершу я больше ни единого греха, вина эта доконает меня, человека, которому сохранили жизнь для того, чтобы знал он, ценой какого преступления куплена она. Он поднялся в полумраке пещеры, словно собираясь бежать, но сделал всего два неуверенных шага — и ноги его внезапно подкосились, руки взметнулись к глазам, чтобы успеть сдержать навернувшиеся на них слезы. Бедный мальчик: словно от нестерпимой боли, он извивается и корчится на земле, в пыли, он угрызается виной за деяние, которого не совершал, но главным виновником которого, пока жив, будет считать себя, и вина его неизбывна, неискупима. Забегая вперед, скажем, что поток этих мучительных и не принесших облегчения слез навсегда останется в глазах Иисуса влажным, скорбным отблеском, и будет постоянно казаться, что он только недавно и неутешно плакал. Время шло, и шло к западу солнце, удлинялись тени, возвещая пришествие иной, всеобъемлющей тени, которой окутает мир близкая уже ночь, и даже в самой пещере заметны стали эти перемены: сгущался мрак, сгрызая крохотную миндалину, трепетавшую на кончике фитиля — ясно, кончается масло, — точно так же будет, когда погаснет солнце и люди станут говорить друг другу: Что-то плохо видно, и невдомек им, что глаза-то им больше ни к чему. Иисус спит, сдавшись на милость скопившейся за последние дни усталости, ибо слишком много всякого случилось за это время — и мученическая смерть отца, и полученный от него в наследство кошмарный сон, и то, что мать смиренно подтвердила ужасную истину, и трудный путь в Иерусалим, и наводящий страх Храм, и безжалостные слова книжника, и приход в Вифлеем, и посланная судьбой встреча с повитухой, явившейся из глуби времен, чтобы окончательно развеять последние сомнения, — и ничего удивительного, что измученное тело погрузилось в сон, взяв с собой и истомленный дух, но тот уже зашевелился и во сне ведет тело в Вифлеем, и там, посреди площади, звучит признание в ужасающей вине: Я, говорит дух устами тела, я тот, кто навлек смерть на сыновей ваших, судите меня, обреките тело мое — вот оно, перед вами, тело, которое я одухотворяю и одушевляю, — любым пыткам, самой лютой казни, ибо известно, что лишь через страдания, претерпеваемые плотью, обретет дух спасение и награду. Видит во сне Иисус матерей вифлеемских с убитыми сыновьями на руках, и лишь одна прижимает к груди живого младенца: это та, кого первой встретил он на площади, и это она отвечает ему: Раз ты не можешь вернуть им жизнь, лучше уж молчи, — пред лицом смерти не нужны слова. Как скомканная и смятая туника на дне дорожной сумы, скрывается в самом себе смятенный дух, предает покинутое им тело на суд матерей вифлеемских, но Иисус не узнает, что может нетронутой унести оттуда бренную свою оболочку, ибо женщина — та самая, с живым ребенком на руках — только приготовилась сказать ему: Ты невиновен, уходи, — как вдруг нечто, показавшееся ему ослепительной вспышкой, разорвало мрак пещеры и он проснулся. Где я? — было первой его мыслью, и, с трудом подняв взгляд с пыльной земли, он сквозь не просохшие еще слезы увидел перед собой человека исполинского роста, и сначала померещилось, будто голова того объята пламенем, однако он тут же понял, что в поднятой правой руке человек держал горящий факел, пламя которого достигало свода пещеры, голова же, хоть и была много ниже, все равно могла бы принадлежать самому Голиафу, однако в лице его не было ничего свирепого или воинственного, а напротив — играла на губах довольная улыбка: так улыбается тот, кто искал и нашел искомое. Иисус поднялся и отступил к стене и теперь мог получше разглядеть этого великана, который вовсе и не был такого уж неимоверного роста, а всего лишь на пядь был выше самого рослого назаретянина: это был оптический обман, а без него, как известно, невозможны были бы никакие чудеса и сверхъестественные явления, и вряд ли открытие это принадлежит лишь нашему времени, и, родись Голиаф чуть попозже, он просто-напросто играл бы в баскетбол, да и все. Ты кто? — спросил человек с факелом, но видно было, что он всего лишь хочет завести разговор. Потом воткнул факел в расщелину между камнями, прислонил к стене две принесенные с собой палки — одну узловатую, давно служившую ему и отполированную его ладонями, а другую, должно быть, только что срезанную и еще даже не очищенную от коры, — а сам уселся на самый большой камень, поплотней запахнув просторный плащ, что был у него на плечах. Иисус из Назарета, отвечал ему юноша. А тут чего сидишь, раз сам из Назарета? Я родился здесь, в этой пещере, и вернулся в то место, откуда появился на свет. На свет ты появился из такого места, куда вернуться уж при всем желании не сумеешь. Двусмысленные слова эти заставили Иисуса смутиться и покраснеть. Сбежал, что ли, из дому? — продолжал между тем незнакомец. Иисус, поколебавшись немного, словно решал сам для себя вопрос, можно ли было счесть его уход из дому бегством, ответил: Да. С отцом-матерью не поладил? Отца у меня нет. А-а, — протянул человек, но Иисуса вдруг охватило странное и смутное ощущение, что собеседнику его было известно и это, и не только это, а вообще все, что было им сказано, и даже то, о чем речь еще не шла.