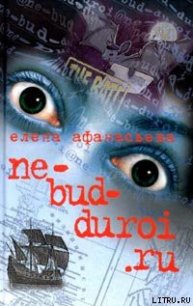Театр тающих теней. Конец эпохи - Афанасьева Елена (читать книги без регистрации TXT, FB2) 📗
Раньше про него знала только она одна. Теперь знают двое – Анна и дочка. Пусть лежит их память в коробке под скалой с могилой Антипа Второго. Антип остается хранителем последнего, что у них осталось
– Почему мы всё прячем? – спрашивает девочка, когда они идут обратно к дому.
– Кто знает, где мы будем завтра! – пожимает плечами Анна. – Нужные вещи придется в домик для прислуги перенести, чтобы без всего не остаться.
– А дальше? – Оля подняла глаза, смотрит на нее.
Если бы она знала, что ответить.
Если бы она только знала, что дальше.
Муж, Маша и мать не пишут. Как их найти, не ведомо. Как вернуться в Петроград, где хотя бы есть гимназии для девочек и их дом на Большой Морской? Никак. Ни денег, на которые можно уехать, ни разрешения на проезд – с недавнего времени в Крыму введен запрет на свободное передвижение, а помочь с разрешением на выезд в Петроград бывшей княгине с дочерями не может никто, даже отец Саши и Шуры Павел не станет так рисковать.
В начале зимы красные в какой уж раз «реквизируют излишки» – едва Анна с нянькой успевают спрятать в подвале пустующей конюшни что оставалось от последнего проданного еще при врангелевцах камня. На том и тянут до последнего. Подходит время Семёну из Верхнего села привезти им оставшуюся часть их доли за оставленную у него Маркизу, а Семёна всё нет.
Нянька утешает:
– Придет весна, разведем огород.
– Какой огород здесь, на побережье, на скалах! – Анна машет рукой. – Все плодородные земли вверху за перевалом. Но и там еще прошлой весной сеять нечего было, что теперь будет и представить страшно. Почему Семён всё не едет? Знает же, что мне до него доехать не на чем, разве что пешком в гору идти или на велосипеде, не понятно, что лучше.
Проходит еще несколько недель. Семён с их долей продуктов так не появляется. Провизии нет совсем. Приходится Анне идти пешком в гору. Идти, уговаривая себя, что это только вверх тяжело, а оттуда Семён запряжет Маркизу и довезет до дому ее и провизию. Нужно только дойти. Только дойти. Дойти только. Сколько часов идти, кто ж его знает…
Как назло, идет столь не частый в Крыму снег. Велосипед, с тех пор как оставила в селе старую клячу Маркизу, стал для нее основным средством передвижения, но в такую погоду велосипед бесполезен.
Снег падает и тает, превращая дорогу в жидкую кашу, которую Анна месит своими прохудившимися ботинками тонкой кожи, купленными когда-то в самом модном магазине на Невском.
Идет. Вверх до церкви Вознесения Христова. Потом до Байдарских ворот. После тропами – Семён в прошлый раз показал ей путь короче, чем по петляющей проезжей дороге.
Идет. По бокам в разные стороны разбегаются дорожки до других селений – Кизиловое, Орлиное, Павловка, Подгорное, Тыловое – бывшие материнские владения.
Идет и думает, как не ценила всё, что делала в своих имениях мать. Как управляла. Как вникала во всё. Даже в тот раз в октябре семнадцатого, когда по дороге со станции остановились в Верхнем, Анна не обращала внимание, что обсуждает с мужиками мать, как всё знает про посев, уборку и агротехнологии, как помнит все доходы-расходы, как называет каждого из крестьян и даже их детей по именам. Не богатая и праздная барская жизнь, а сложная работа по управлению хозяйством, чтобы жило, множилось и расцветало.
Теперь только Анна начинает понимать, какую мать чувствовала ответственность: нужно было содержать, и хорошо содержать, их всех. На мужа в этом смысле надежды было мало. Род Данилиных из обедневших дворян, денег от родителей у Дмитрия Дмитриевича не осталось, академическое жалованье мужа было приличным, но лишь для семьи профессора, но не для мужа дочери и отца внучек княгини Истоминой, которые с детства не задавались вопросами ни о еде, ни о деньгах на наряды, ни о том, кто и чем топит их дом.
Теперь все эти вопросы адресованы ей.
Никогда не думала, как много работала над управлением своим хозяйством мать. И как пахали мужики. Чтобы у нее и ее девочек всё было.
Почему не думала никогда?
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Снег мокрый в лицо. Дрожь. Ухнет птица – душа в пятки. Что ж он, Семён, счет дням потерял! Прежде никогда так их долю не задерживал.
Идет, замерзла. Уговаривает себя, сейчас дойдет и у Семёна в доме отогреется. Жена его Настёна даст горячего чаю, а то и на печи погреться предложит. Прежде она, княжна, барышня, от печки всегда отказывалась, теперь готова согласиться и на печь. Прохудившиеся ботинки и мокрые чулки снять, просушить и ноги согреть.
Выходит к Верхнему почти затемно. И не понимает, где она?! Где село? Сожженные дома. Пустые амбары. Никого.
Дом Семёна, наполовину сгоревший. И пустой. Выстуженный и пустой. Двери хлева, где прежде рядом с единственной коровой стояла ее старая лошадь Маркиза, нараспашку. Ветер гоняет их туда-сюда. Анна входит, нащупав в кармане спички и свечку, которую на всякий случай положила себе в карман. В хлеву темно. Замерзшими руками пытается зажечь отсыревшие в промокшем пальто спички. Не получается. Спотыкается обо что-то громоздкое на полу, едва удерживается на ногах, снова пытается зажечь спички и свечку. Наконец получается, свеча разгорается тусклым светом, и Анна может разглядеть, обо что споткнулась.
Труп лошади… Маркизы… Почти один скелет от нее остался. Анна водит свечкой с разных сторон. Кожа обтянула ребра, кроме ребер ничего не осталось. Лошадь сдохла от голода.
Анна садится на оставшуюся в хлеву солому и плачет.
Плачет над старой клячей Маркизой. Над своей жизнью плачет. Над безнадежностью. Нет Маркизы. Не на чем Семёну ее домой отвезти. И Семёна нет. Где его в выжженной пустой деревне искать? Нет Семёна. Значит, продукты ей никто не отдаст. Нет продуктов. Не на что больше рассчитывать.
И людей нет. И села нет.
Только слезы есть. Душащие ее слезы. Над останками Маркизы рыдает в голос, как не рыдала даже над Антипкой, сдерживаясь при девочках. Рыдает. Кричит на всё пустое, вытоптанное, умерщвленное село:
– Господи! За что?! За что нам все это, Господи?! Прости и помилуй, Господи! За что? – Криком кричит. Криком. Гулким эхом, разносящимся над оставшимися остовами домов.
В дверь заглядывает старуха. Беззубая. Седая.
– До Семёна, барышня, изволите?
Анна только судорожно кивает, не в силах успокоиться. Вошедшую в слабом свете свечи видно плохо, она старуху не знает. Никогда прежде не видела.
– Семёна ишо прошлые порешили, – беззубым ртом шепчет старуха и едва выговаривает: – Враглеры…
– Врангелевцы? – догадывается Анна.
– Хто их разбереть. – Старуха тянет к ней руку. – Пишлыть отсель. Неча, барышня, на студёном сидеть. Околеете. – Берет за руку, ведет за собой.
Ветер, снова хлопнувший дверью хлева, задувает свечу. Старуха за руку ведет ее в темноте. Куда ведет?
– Прошлые влястя порешили. С осени. Аккурат ко второму покосу. За пособничество. Семёна и ишо мужиков. Донесли, что красным в тот ихний приход хлеб отдавал. А как не отдать-та! Порешили бы красные! Донес на всех бывшай староста сельский Панкрат. Матери вашей немчура коего старостой поставил.
Старуха знает ее мать и «немчуру», управляющего Франца Карловича. И ее знает. Только Анна старуху не помнит.
– Панкрат, ирод, донес. Всех мужиков в поле постреляли. Дома пострелянных подожгли – едва убегнуть, кто в домах тех был, успели. Припасы, какие враглеры не растащили, Панкрат себе забрал. Так опосля его красные порешили. Что Панкрат со всех дворов в свой амбар свез, всё забрали. Ничо не оставили. Неча сеять было. Да и некому. Не сеялись с осеня. И весной неча сеять будет. – Старуха заводит в небольшой то ли дом, то ли сарай на окраине пустого села. – Людев мало живых. Кто при силе, на работы подались. А мы туточки доживать осталися.
В доме-сарае чуть теплее, чем во дворе. Чуть, но теплее. И светлее.
– Вы, барышня, мокрое скидайте. Обсохните. Не ровен час, захвораете в мокром.
Из сундука старуха достает пуховый платок, холщовую рубаху, ситцевую юбку на резинке и кофту в синий горошек – осенью семнадцатого дочка Семёна Маруська в таких юбке и кофте была.