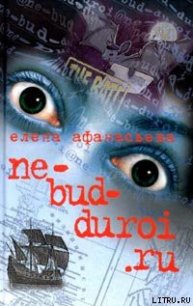Театр тающих теней. Конец эпохи - Афанасьева Елена (читать книги без регистрации TXT, FB2) 📗
– Сымайте, в сухое кутайтесь. Сушняка по округе малёк сбирала, подкину в печушку, потеплет.
Старуха подходит ближе к печке, и в свете огня Анна замечает у нее на шее дешевые красные бусы. Какие были на семёновой жене Настёне, когда-то осенью семнадцатого она им каравай подносила. Коса пшеничная тяжелая, вокруг головы закручена, аж из-под платка выбивается. Разгоряченная на осеннем солнце женщина пот со лба рукавом утирает, хозяевам кланяется. Груди налитые, больше, чем у беременной Анны. Про таких говорят: «кровь с молоком».
Настёна в таких точно бусах была. У всех сельских баб бусы похожие? Или Настёна седой старухе свои бусы отдала? Или это мать ее? Или бабка… А сама Настёна где?
– Чуть теплецо разойдется. Жара с хворосту-та не будет, но хучь чуток.
Всматривается Анна в старуху. И понимает, не мать она Настёны. И не бабка.
– Настёна… Это вы?!
Старуха кивает.
– Хто ж ищо.
Сама Настёна!
Молодая, пышущая здоровьем и силой женщина три года назад. Беззубая седая старуха теперь.
Это ее мужа Семёна убили врангелевцы за то, что не мог перечить красным, экспроприировавшим хлеб. Это ее сыну Игнату Савва объяснял, как работать на «механизме». Это Игнат видел, как по дороге на Севастополь Антипка бежал за авто, которое увозило Савву.
– А дети… ваши… Ваши дети где?
– Погодки Ляксей да Ольга ищо в те красные от заразы какой помёрли. Маруську сестра Валька давно в Севастополю на фабрику забрала, всё кусок хлеба. А как отца порешили, так и Игнатий с пацанвой на завод в Севастополь подалися. Там карточку продуктовую дают.
– Он же ребенок совсем! – охает Анна.
– Какой такой теперь ребенок. Двенадцати годков. Працувать боле некому.
Двенадцать лет. Ее Олюшке двенадцать.
Как про долг Семёна теперь спросить? Сама же видит, село разорено. Настёна одна в чужом сарайчике перебивается. Но дома голодные девочки и нянька. Не может она не спросить.
– Совсем ничего из запасов не осталось?
– Какие запасы, барышня? Откель?
Анна вдруг думает, плохо это, что Настёна ее признала. И «барышней» назвала. Опасно. Донесет. А не она сама, так очередной «староста» донесет, что дочка бывшей хозяйки наведывалась. Нельзя ей теперь ходить в материнские села.
Снимает с печурки так и не просохшее пальто.
– Куда на ночь-та? Банды по округе.
– Белые? – спрашивает Анна. Еще в Ялте писатель Сатин говорил, что белогвардейцы частично ушли в горы.
– Хтош их пойметь. – Настёна рукой машет. – Всех цветов были, что могли обчистить, обчистили. Брать боле неча, а всё одно приходют. Ты, барышня, околь печурки на сундук ложись. Рассвететь, и пойдешь. Береженого бог, он бережеть.
Анна ложится на тюфяк, брошенный Настёной на деревянный сундук. Спать не спится. Жестко. Неудобно. Холодно до дрожи. И страшно. За себя. За девочек. За жизнь.
– Настёна, а вам лет сколько? – тихо спрашивает Анна. Не услышит старуха, значит, не надо такие вопросы задавать.
Но старуха отвечает:
– Так, поди, уже три десятка было. Доку́ментов не осталося, погорело всё. Но матерь сказывала, девяностого году я рождения. Почитай, тридцать на тот Яблочный Спас и сровнялось.
Тридцать! Старухе тридцать лет! Как ей, Анне.
Война это сделала или всегда так было, что крестьянки в тридцать лет становились старухами, только она в своем другом мире об этом не знала?
Дремать Анна начинает только под утро. Но вскоре просыпается от холода и затекших ног. Печурка за ночь остыла, пар идет изо рта. И спать на тюфяке она не привыкла, не чует ног. Едва-едва их разминает, морщась от боли – будто тысячи иголок впиваются в затекшие ступни. Тихо натягивает свое пальто и юбку, оставляя ситцевые в синий горошек возле печурки. Ботинки ее так и не просохли, но выбирать не приходится. Хочет тихо выскользнуть за порог сарая, но рассохшаяся дверь на проржавевших петлях успевает скрипнуть.
– Постой!
Анна пугается Настёниного голоса. Донесет? Прикрывает за собой дверь. Скорее бы теперь выбраться из мертвого села.
– Стой! – Грозный голос Настены летит ей вслед. – Барышня, стой! Дитятки у тебе?
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Анна замирает. Оборачивается. Рассохшаяся дверь сама собой распахивается. Едва накинувшая старую полушальку Настасья на пороге.
– Дочки, – едва слышно отвечает Анна. – Три. Две… Одна с матерью и мужем. Потерялись мы. Две со мной.
– Постой.
Старуха лезет, достает небольшой холщовый мешочек, из сундука достает другой такой же, поменьше, пустой. Отсыпает крупы.
– Что мне теперь одной, а диточки исть хочут. Кобыла твойная нас всех туточки год, почитай, кормила. Кабы не она, не собрать бы урожай и зиму не прожить.
«А что толку, что прожить, если всех убили, всё сожгли и весной сеять нечего», – думает Анна, глядя, как Настёна отсыпает ей почти считанные крупинки. Нечего и некому больше сеять на их землях. Материнская земля не может их кормить.
И надо бы спросить, хватит ли оставшейся крупы Настёне самой. Но сил нет. Старуха не сказала, что это у нее последнее, и у Анны нет сил спрашивать. Сунуть за пазуху почти невесомый мешочек – а она еще волновалась, как все положенные им продукты до имения довезет! – и скорее выйти за двери.
Еды больше нет. И не будет.
Описи ценностей
Постановление об организации Чрезвычайной комиссии по переселению рабочих в дома буржуазии Анна читает на доске приказов и распоряжений местного Совета в поселке.
Рядом на листовке: «…Заколотим наглухо гроб уже издыхающей, корчащейся в судорогах буржуазии».
Так два прочитанных текста сливаются в ее сознании, и ей уже видится, как все их имение превращают в один большой гроб, который заколачивают.
Отец Саши и Шуры Павел в один из вечеров заходит к Анне через заднюю дверь из сада.
– Съезжать вам из большого дома надобно, Анна Львовна. Лучше самим в дом прислуги переехать. Комнату Марфуши мы освобождаем – уезжаем. Занимайте ее, пока вас на улицу не выселили.
– А в главный дом въедет кто? Новый председатель местного совета бывший истопник Федот?
– Хотел было. Да я его не пускаю. Ему и нашей нынешней комнаты в доме для прислуги хватит, мы всё одно съезжаем. Приказом об образовании управления Южхоза ваше имение под нужды Южсовхоза отойти должно. Как мог хлопотал.
Что это значит, Анна не понимает. Что за Юж-Сов-Хоз? Слова стали как рык. Но понимает, что в Марфушиной бывшей комнатке одна узкая кровать. Им втроем не поместиться. Рядом комната няньки. Кушетку для Олюшки можно у няньки поставить. Иришкину детскую кроватку вплотную к той узкой, на которой спала расстрелянная позже Марфуша, а теперь придется спать ей, и хоть как-то уместиться. Куда столик для детских занятий ставить, не понятно. У няньки в комнате столик есть, но на нем теперь придется и еду на керосинке готовить, и обедать, и другие хозяйственные дела делать. А учиться девочкам где?
В середине декабря на пороге комиссары. В куртках бычьей кожи. При виде этих курток Анна сжимается. Глазами выискивает среди них того бритоголового, который видел, как она в этом самом доме революционного матроса застрелила.
В этот раз бритоголового среди комиссаров нет. Но Советская власть вернулась, и он может вернуться в любой момент. Тогда жить Анне останется недолго. Что там писатель Сатин страшным шепотом говорил про Багреевку, куда свозят расстреливать воевавших против Советской власти и «буржуев». А она, Анна, по их меркам теперь и то и другое.
Бритоголового нет. Но другие есть. Представляются комиссией по национализации имений. «Какой по счету за эти три года?» – думает Анна. За спинами комиссаров маячит Павел. И новый председатель местного совета – бывший истопник Федот.
Предъявляют постановление. Казенным, ломким, безжизненным, новым языком будто и не по-русски написано: «Изъять в районе от Судака до Севастополя включительно из частного владения как разных ведомств, так и частных лиц, все имения Южного берега Крыма, которые с момента данного постановления объявляются достоянием Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, и передать их в ведение специального Управления Южсовхоза».