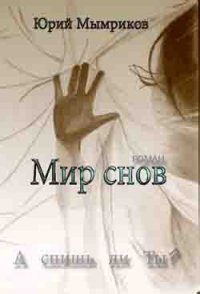Улица Грановского, 2 - Полухин Юрий Дмитриевич (читаем книги онлайн без регистрации TXT) 📗
В конечном счете важным оказалось единственное: Пири про себя в газетах, по радио, в докладах по всем столицам так растрезвонил, что вся планета поверила – полюс открыт, человечество сделало еще один шаг вперед. Амундсен и тот поверил. А в результате – и Южный полюс открыл. Так? Ну, так? – настойчиво спрашивал Аргунов. – В том-то и дело: лицемерие бывает полезней правды! Если оно помогает выигрывать время.
Так!.. Вот и Марии надо было дать время, возможность сформироваться, а не уличать ее в каких-то искусственных чувствах. Глядишь, она тогда и не бросила бы свою Голубкину.
– Так, может, лучше, что бросила?
– Может, и лучше, – подумав, неожиданно легко согласился Аргунов. – Не мне судить. Тем более уехала она с Красной речки в глушь такую, где не то что Голубкина – простые голуби и те не живут. Как ей было свое оберечь?.. А все-таки мог Панин хотя бы глаза закрыть на какие-то ее прорехи.
– Он – ученый. Потому, наверное, и не выносил никакой приблизительности? – примиряюще спросил я.
Но Аргунова это не успокоило, – наоборот, взорвало:
– Не о науке речь! Как вам втолковать? – почти выкрикнул он. – О девчонке. Дитёона еще была, дитё…
Я вспомнил такую будничную ночную перебранку Анисима Петровича с Диной, дочкой, его голос, полный непролазно-темной печали, и больше уж не спорил, молчал. Но невольно подумал: «Пожалуй, с этими мыслями Аргунова и Штапов согласился бы. Надо ж! из каких противоположных чувств, разных начал люди могут прийти к одинаковым выводам…»
Возможно, и Анисим Петрович подумал о том же самом, потому что и он – заговорил о Штапове.
Штапов занимал в поселке гидростроителей соседний с Ронкиным вагончик. Вагончики эти стояли вразброс на лысом, каменистом склоне горы. Земля на тропках меж ними повыбилась, и когда дул ветер, – а он часто приходил из дальнего, прохладного ущелья, устремляясь к побережью, – песок, пыль столбами поднимались в воздух, закруживаясь, шурша тоскливо по толевым крышам.
В такой вот ветреный, неуютный денек – еще осенью, когда жива была его жена, – Ронкин посадил рядом со своим вагончиком три яблони.
Деревца он привез почти взрослые, вырыл ямы поглубже, разворошив пешеходную тропу, натаскал, набил в них чернозему и навозу отыскал где-то, хотя в поселке, кажется, никто не держал никакой скотины.
Пока он работал так, Штапов стоял рядом, засунув руки в карманы синих галифе, посмеивался:
– Ты, Ронкин, – ненаучный утопист. Если уж в этих каменюках само собой ничего не выросло при здешнем-то благодатном климате, разве дано тебе над природой самовластвовать?.. И где сажаешь-то? На тычке!
Их ведь тут, как чарочку с винцом, никто не обежит.
Разве им выжить?
– Обегут. Совесть-то у людей есть. Не у всех, правда, – язвительно отвечал Ронкин, орудуя лопатой.
– А ночью-то! – радостно восклицал Штапов. – Ночью-то тоже люди по тропе ходят. Разве ночью совесть не спит? В темноте-то?
– Отстань! Не нуди! – Ронкин замахивался лопатой. – Ну, весь ты изолгался, насквозь!
Но Штапова и такие взрывы его не смущали, он, хихикая, гнул свое:
– Ишь как заговорил! Ка-кой бодряга!.. Но не очень-то ерепенься попусту, ведь я над тобой началю, не ты – надо мной, так?..
А Ронкин сплевывал ему под ноги, молчал. Штапов настаивал:
– Если философски-то подойти, что такое есть ложь? Всего лишь – заплатка на правде. Поэтому…
– Эти прибаски я слышал знаешь где? – недобро спрашивал Ронкин. И Штапов сразу настораживался, голосок его становился суше.
– Ну-ка, скажи, скажи, где?.. Оскорбление личности знаешь чем карается? – и двоил желтыми, как смола, глазами. – Места, в которых ты побывал, известные.
И для тебя же лучше не вспоминать про них, а то ведь могут и у тебя о многом спросить, ох о многом!..
Но Ронкин смеялся и отвечал теперь чуть ли не добродушно:
– Знаешь, Штапов, уж на память-то мою ты платок не накинешь, правда? Ты ж не очень глупый человек: если даже я и смолчу, ты сам догадаешься – о чем это мое молчание. Так что лучше – не будем.
– Нет, будем, будем! – взвизгивал Штапов. – Давай и о концлагерях побеседуем! Чего стесняться?.. О том, как попал ты туда, например…
Ему казалось: он бьет по самому больному, и Штапов всматривался в лицо Ронкина изучающе. А тот продолжал копать. Штапов даже к земле пригибался, стараясь разглядеть лицо соседа: неужели ничто не выведет его из себя?
Но лицо Ронкина оставалось спокойным. Вот это-то и бесило, должно быть, Штапова больше всего. По всем его взглядам, по всему прежнему опыту выходило: ни один человек не может без страха жить – хоть кого-то, хоть что-нибудь, но должен бояться каждый, обязательно должен. Нужно только отыскать тайную пружину страха, надавить на нее, и тогда уж человек этот – твой, вей из него веревки! Да он и сам взовьется, завяжется в любой узел, лишь бы пружину хитрую больше не трогали.
Но похоже было, что пришельцы эти – Токарев с Ронкиным – ничего и никого не боялись.
Ну, еще Токарева можно было понять: хоть невеликий, но начальник, все ж таки главный механик строительства – мог и возгордиться от внезапного своего возвышения и оттого голову потерять. А Ронкин – что?
Просто экскаваторщик! Иначе говоря – землекоп. Что он-то себя выше других ставит?
Этого Штапов понять не мог, но обещал себе доискаться до сути.
Между тем яблони, на удивление, принялись и весной зацвели и даже выбросили плутовато-курносые завязи. Теперь ухаживал за ними не только Ронкин – после смерти жены его почти не бывало в поселке, – а все соседи.
Но для Штапова-то яблони эти оставались по-прежнему – ронкинские. И, проходя мимо, он старался спрямить тропу старым ходом, топтал взрыхленную, чуть не руками просеянную землю – как бы невзначай. И делал так только в те вечера, когда Ронкин был дома: на глазах у него шел, помахивая пухлым желтым портфелем, отвернув голову, словно задумавшись, задевал френчем ветки яблонь. И, уж задев, демонстративно отшатывался, каждый раз изумляясь как бы: откуда это здесь выросло, что это?..
Тогда и Ронкин выходил из своего вагончика и тоже молча, тоже демонстративно перекапывал землю, уничтожая в ней четкие следы штаповских подбитых стальными полукруглыми подковками каблуков, – ему ненавистны были сами эти следы.
Спорили уже не из-за яблонь: о большем.
Побеждал явно Ронкин. Яблоки на деревцах с каждым днем наливались соком, круглели, и к середине лета бока их начали розоветь. Было их, правда, не так уж много: десяток-полтора на каждом деревце. Но ведь и радость не в том: они веселили глаз; даже пыльные нерасчетливые водоворотики – и те будто бы обегали яблони стороной.
Но вдруг однажды, в одну из тех немногих ночей, когда Ронкин отсыпался в поселке, кто-то срезал аккуратно яблоки – все до единого. Но не унес, нет! – так же аккуратно нитками подвязал их за зеленые крепкие ножки к ветвям. Ронкин вышел утром из вагончика, и ему сразу в глаза бросилось: яблоки среди зелени – как волдыри какие-то. Он еще не сообразил, не разглядел, в чем дело, но краем глаза заметил: занавеска на окошке штаповском колыхнулась. И тут-то Ронкин все сразу понял, не сомневался, не раздумывал ни секунды – его попросту бросило к порожку штаповскому из трех нестроганых досточек. Рванул дверь, – звенькнул, вырвав петлю, крючок.
Точно! Штапов стоял у окна, только и успел – отшатнуться, взглянул на бледное лицо Ронкина, на сжатые его кулаки и закричал, испугавшись:
– Не смей! Не превышай, Ронкин!.. Я только куражил тебя! Куражил! Только и всего!..
Почему-то словечко это непривычное – «куражил» – Ронкина холодком обдало, он процедил с ненавистью:
– У-у, пакостник! – и ушел. Даже в вагончик к Штапову не полез, захлопнул дверь с силой.
Ушел к «газону» своему, работяге, ожидавшему его у обочины ближней дороги. Сел на продавленное, клеенчатое, вытертое до нитяной белизны, уже и блеск потерявшее сиденье, а голову положил на руль и так сидел долго, молча, сдавив баранку в руках, – кожа на суставах побелела.