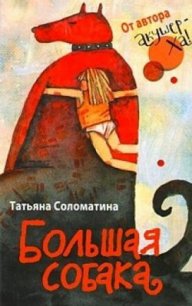Коммуна, или Студенческий роман - Соломатина Татьяна Юрьевна (книги хорошего качества TXT) 📗
Домой вернулись голодные. Но очень довольные. Первый совершенно самостоятельный выезд. Да не куда-нибудь, а в Москву! Жаль только, что никаких романтических историй с ними не случилось. Во всяком случае, девушкам было жаль. Автору же остаётся только порадоваться за своих героинь, с которыми много лет назад в первый совершенно самостоятельный выезд, да не куда-нибудь, а в Москву (эпизод неудачных поступлений Романовой и Кусачкиной в столичные вузы – не в счёт, потому что с ними была тётя Надя, Танькина мама), не случилось никаких историй.
– Не нужна тебе эта деревенщина! – с порога рявкнула мама.
«Тыц-пиздыц – по-русски здрасьте!»
– Какая деревенщина мне не нужна? – опешила Полина, для которой букетно-коньячный эпизод и неожиданное материно гостеприимство несколько утратили свою актуальность за время поездки.
– Да этот твой Вадим. Нет, он, конечно… милый. И вежливый. И вообще, но…
– Ах, мама, мама! – вздохнула Полина. – Увы и ах, но он не мой.
На этом обсуждение Короткова было, как это ни странно, завершено.
Милый Вадим, а также большинство его товарищей на зимние каникулы разъехались по домам. Все, кроме Примуса. И буквально накануне начала занятий, тайком от мамы, разумеется, Полина навестила Примуса в общаге. Было страшно интересно посмотреть, как они там живут. Жили убого. В Москве общага хоть отдалённо напоминала жилище – в коридорах была какая-то мебель и признаки человеческого обитания. Здесь же было гулко, пусто и безжизненно. Только двери, двери, двери. Обшарпанные двери по обе стороны длинного тоннеля из ниоткуда в никуда. В пронумерованной комнатке, размером с ту, где жила Полина с девочками в колхозе, стояли три панцирные койки, шкаф и стол. Над кроватями были прибиты полочки. Примус чуть с кровати не свалился, когда после стука в дверь и его вопля: «В долг не даю!» – зашла Романова.
Господи, как он суетился! Куда-то убежал с чайником. Вернулся. Снова убежал. Вернулся с горячим чайником. Что-то нёс и вообще не знал, куда себя деть. Примус без публики, наедине с Полиной, оказался крайне уязвим. Не успел настроиться от неожиданности или ещё чего… Кто знает. А может, думал: «Я, в этой убогой общаге! И что делать тут с этой девочкой? Целоваться?..» Как-то сразу и навсегда он понял Вадима Короткова, которому прочитал много исполненных сарказма лекций на тему, мол, что можно с одними, то можно со всеми остальными. И что любовью оскорбить нельзя ни в каком месте. А тут вдруг понял, что можно. Вот именно здесь, в этой комнатушке, – можно и любовью оскорбить. Как с добрым утром! Сказать по-русски – стушевался. И стал не Примус, в смысле – Primus, – а керогаз какой-то.
После часа неловкого чаепития и картонной беседы он проводил её до автобуса. Хотел до дома, но она отказалась:
– Лёш, ещё не поздно. А ты потом будешь из центра на свои Черёмушки пилить. Перестань! Это совершенно лишнее. Я вполне способна проехаться на автобусе самостоятельно и пройти два квартала от Ленина до проспекта Мира без приключений. Спасибо за чай. На улице ты снова стал похож на себя обычного. Вот и автобус, пока-пока! До послезавтра! – Полина поцеловала его в щёку, запрыгнула в раскрывшиеся двери длинного жёлтого автобуса и помахала ему ручкой из окошка, отъезжая.
– Дурак! – сам себе жарко шептал Примус, напиваясь вечером в гордом одиночестве. Ни читать, ни думать ему сейчас не хотелось. Хотелось напиться и уснуть. И видеть сны…
цитировал пьяный Примус в полночь в комнате студенток третьего курса, размахивая над колбасой тупым кухонным ножом. Увы, увы, увы… С публикой ему было проще, чем наедине с собой. Суета и скоморошество – тоже своего рода медитативные техники. Толпа – своего рода психотропное вещество. Как следствие – отходняк куда горше, чем после одиночества.
Начался второй семестр, и все стали прежде всего теми, кем они прежде всего и были в данный текущий момент времени, – студентами Одесского медицинского института имени Николая Ивановича Пирогова.
О, не волнуйтесь! Автор помнит, что эта глава называется «Глеб». Но названия – это такие условности, согласитесь! Вот, например, если кто-то называется «студентом», вправе ли он быть ещё кем-нибудь? Глупой девицей или безнадёжно влюблённым? Так что название – это просто такая условная вешка, поставленная в бескрайнем поле текста. Такая же, как наименования: «студент», «женщина», «мать», «врач» и так далее – всего лишь привязки-ориентиры в бескрайнем поле жизни. Потому что всё вместе чувствовать, осознавать и принимать сложно – какое уж там описывать. Но надо стараться. Что это за студент, если он не учится? Что это за женщина, если она не любит? Что это за мать, если она не раздобудет своим детям мандаринов? Что это за врач, если он не знает пропедевтики? И что это за писатель, если он не может, слово за словом, описать неописуемое целое? Или хотя бы не попытается. Так что вешки нужны разные. И иногда они вроде огонька зажигалки, мелькнувшего в кромешной тьме. Ты уже в открытом космосе, паришь там без скафандра – и мысли твои, и чувства твои, и ощущения твои, сплавляясь в неразделимое, уже близки к постижению истины… И тут – клац! – кто-то щёлкает кремнем, прикуривая (всего лишь за мгновение до окончательного откровения, вот что обидно!) – и ты приземляешься из своего космоса куда-нибудь на задний двор. Сидишь там себе тихонечко, вдыхаешь запах вселенной, и не надо тебе никаких окончательных откровений. Во всяком случае, пока. «Ой, спасибо тебе, дорогой товарищ с зажигалкой, что ты вовремя появился. А теперь пойди погуляй. До следующей в тебе необходимости!»
Так что будет и Глеб, когда время придёт. Один из многочисленных помощников режиссёра (может, и тот, что прикуривал) – уже предупредил, что скоро его выход.
Второй семестр начался без особых приключений. Новые дисциплины требовали нового времени, новых учебников, новых усилий. Полине очень нравилось учиться, хотя к проклятой анатомии присоединилась ещё и гистология. Кости, мышцы, внутренние органы, сосуды – они хоть вот, наглядны. А гистология – зубрёжка втёмную, не считая мутных стёклышек под микроскопом, в коих, говоря откровенно, ни черта не ясно. А альбомы?! Проклятие медицинских институтов – альбомы, альбомы, альбомы. Таскаешься, как финтифлюшка-детсадовец с цветными карандашами-фломастерами. Ну в каком ещё вузе, кроме профильных, художественных, там, или архитектурных, страдают таким идиотизмом, как раскрашивание альбомов? Вы когда-нибудь рисовали картину под названием «Строение среднего уха»? Это чертовски забавно. Похоже на картину Поля Синьяка [33]«Гавань в Марселе» [34]. Как, впрочем, похож в последующем визуальном восприятии на пуантизм результат воздействия безумной парочки «гематоксилин-эозин» [35], применяемой для окраски тканевых ультратонких срезов.
32
Шекспир. «Гамлет», действие III, сцена первая.
33
Поль Синьяк – французский художник-постимпрессионист, представитель пуантизма – стиля письма в живописи, использующего чистые, не смешиваемые на палитре краски, наносимые мелкими мазками прямоугольной или округлой формы. Смешение цветов с образованием оттенков происходит на этапе восприятия картины зрителем – с дальнего расстояния или в уменьшенном виде.
34
Холст, масло, 1906 – 1907, Государственный Эрмитаж.
35
Окраска тканевых срезов гематоксилином-эозином является одним из самых распространённых в гистологии методов.