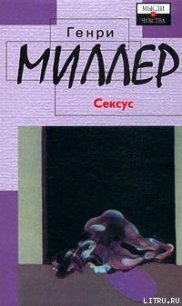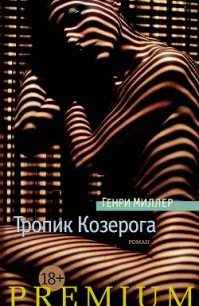Нексус - Миллер Генри Валентайн (серия книг TXT) 📗
— Я уже подвергла его испытанию. Дала ему прочитать кое-что из твоих вещей, выдав, естественно, за свои, и он ни о чем не догадался.
— Вот как! Гм… Ты умеешь пользоваться случаем.
— Если хочешь знать, он очень заинтересовался. Сказал, что у меня несомненный талант. Хочет показать эти страницы издателю, своему другу. Ты удовлетворен?
— Однако роман… Ты правда думаешь, что я в состоянии написать роман?
— Ну конечно. Ты можешь написать все, что захочешь. Не обязательно традиционный роман. Он просто хочет знать, насколько я трудолюбива. Он считает меня беспорядочной, неуравновешенной и капризной.
— А кстати, — прервал я ее, — он знает, где мы… то есть где ты… живешь?
— Конечно, нет. Что я, по-твоему, с ума сошла? Он думает, что я живу с больной матерью.
— А чем он занимается?
— Кажется, торгует мехом. — Мона говорила, а я думал, что было бы интересно узнать, как она познакомилась со своим покровителем и, более того, как умудрилась столь преуспеть за такое короткое время. Но что толку задавать вопросы? Услышу еще одну небылицу.
— И еще он играет на бирже, — прибавила Мона. — Думаю, дел у него хватает.
— Значит, он считает тебя одинокой женщиной, опекающей больную мать?
— Я сказала, что была замужем и развелась. Назвала ему свое сценическое имя.
— Похоже, ты обо всем подумала. Надеюсь, тебе не придется сопровождать его вечерами по разным злачным местам?
— Представь себе, он, как и ты, терпеть не может Гринич-Виллидж и то, что называет «богемной дурью». Поверь, Вэл, это культурный человек. Кстати, он обожает музыку. Кажется, раньше играл на скрипке.
— Вот как? И как же ты называешь этого старикашку?
— Папочка.
— Папочка?
— Да, просто Папочка.
— А сколько же ему… лет?
— Думаю, лет пятьдесят.
— Не так уж и много.
— Пожалуй, да… Но он такой степенный, ведет размеренный образ жизни, поэтому выглядит старше.
— Ну что ж, — сказал я, решив положить конец этому разговору, — все это очень интересно. Кто знает, может, что-то и получится. А сейчас, что ты скажешь насчет прогулки?
— Прекрасно, — ответила Мона. — Все, что ты хочешь.
«Все, что ты хочешь». Как давно я не слышал от нее таких слов! Что случилось? Неужели путешествие в Европу изменило ее? Или меня поджидал некий неприятный сюрприз, о котором она пока помалкивала? Мне не хотелось предаваться сомнениям. Но память о старых ранах не заживала. Она прямо и честно рассказала о предложении Папочки. Оно прежде всего выгодно для меня. Возможно, какой-то кайф она получала от того, что ее принимали за писательницу. И все же главное — она хотела, чтобы я получил шанс. Таким образом Мона собиралась разрешить мои проблемы.
Однако кое-что в этой ситуации крайне озадачивало меня. Я осознал это не сразу, а только со временем, когда Мона стала пересказывать беседы с Папочкой. Те, которые непосредственно касались «ее работы». Папочка был явно не дурак. Он задавал вопросы. Подчас весьма трудные. А как могла Мона, не обладавшая писательской психологией и ничего не знавшая об этом труде, ответить, к примеру, на такой вопрос: «Почему ты здесь так пишешь?» Ответ тут должен быть один: «Не знаю». Но Мона полагала, что писатель должен это знать, и изворачивалась, как могла, предлагая самые невероятные объяснения, которые сделали бы честь любому писателю, если бы тот успел за краткий миг до них додуматься. Папочку удовлетворяли эти объяснения. В конце концов, он тоже не был писателем.
— Продолжай! — просил я Мону.
И она продолжала, что-то, возможно, прибавляя от себя, а я откидывался на стуле и хохотал до слез. Однажды ее рассказ привел меня в такое восхищение, что я совершенно искренне заметил:
— А почему ты решила, что не можешь писать сама?
— Конечно, не могу, Вэл. И никогда не смогу. Я всего лишь актриса.
— В смысле притворщица?
— Я хочу сказать, что у меня нет особых талантов.
— Раньше ты так не думала, — сказал я, с болью выслушав это признание.
— Нет, думала, — настаивала она. — Я стала актрисой… точнее будет сказать, пришла на сцену… только чтобы доказать родителям, что чего-то стою. Не могу сказать, что я как-то особенно любила театр. Каждый раз, получив роль, я испытывала чувство сродни ужасу. Говоря, что я актриса, я имею в виду, что могу заставить людей мне верить. Я не настоящая актриса, и ты это знаешь. Ты ведь видишь меня насквозь. И очень чуток ко всему неискреннему и фальшивому. Иногда я удивляюсь, как ты вообще можешь со мной жить. Правда, удивляюсь.
Странно было слышать такое от нее. Но даже сейчас, несмотря на всю искренность этих слов, она играла. Она заставляла меня поверить в то, что может заставить любого поверить во все, что захочет. Когда речь шла о ней, Мона, как большинство женщин с актерским талантом, либо принижала себя, либо, напротив, превозносила. Естественной она была только в том случае, если хотела понравиться, и этим обезоруживала собеседника.
Я отдал бы все на свете, чтобы услышать ее разговоры с Папочкой! Особенно когда речь шла о сочинениях. Ее сочинениях. Кто там разберет? Может, старикашка, как называла его Мона, раскусил ее? Может, он только делает вид, что устраивает творческую проверку, чтобы ей было легче принять от него деньги? Может, он считает, что, позволяя думать, что она зарабатывает деньги, дает возможность ей сохранить лицо? Со слов Моны мне казалось, что он не тот человек, который прямо предложит ей стать его любовницей. Она никогда не говорила прямо, но по ее намекам создавалось впечатление, что внешность у него отталкивающая. (А разве стала бы она говорить другое!) Но продолжим мысль… После льстивой похвалы — а что может быть приятнее для такой женщины, как Мона, чем признание ее таланта? — она может сама упасть в его объятия. Только из чувства благодарности. Женщина, искренне благодарная за оказанное ей внимание, почти всегда расплачивается своим телом.
Могло быть и так, что у них с самого начала была сделка.
Мои догадки не нарушали плавного течения нашей жизни. Когда все идет гладко, никакие умозаключения не выводят нас из равновесия.
Я полюбил наши вечерние прогулки. Они привнесли нечто новое в наши отношения. Во время этих прогулок мы беседовали более свободно, более непосредственно. Помогало и то, что у нас не было недостатка в деньгах, поэтому мы могли говорить на самые разные темы, а не зацикливаться на низменных материях. Улицы в нашем районе были широкие и красивые. Старинные особняки, приходящие понемногу в упадок, но не утрачивающие величия, дремали в тени веков. Фасад некоторых украшали железные негры — к ним в прежние времена привязывали лошадей. Вдоль подъездных аллей росли деревья, очень старые, с роскошными кронами; аккуратно скошенные газоны отливали яркой зеленью. Безмятежная тишина окутывала эти улицы. Звук шагов слышался за квартал.
В такой обстановке хотелось писать. Часть наших окон выходила в красивый сад, где росли два вековых дерева, я часто любовался этим видом. Иногда сквозь открытое окно до меня доносились звуки музыки. Особенно часто звучали голоса канторов — обычно Сироты или Розенблата: наша хозяйка знала, что мне нравится еврейская церковная музыка. Время от времени она стучала в мою дверь, предлагая кусок домашнего пирога или струделя. Задержавшись взглядом на моем заваленном книгами и рукописями столе, она убегала, счастливая уже тем, что удостоилась лицезреть святая святых писателя.
Однажды вечером, гуляя, мы остановились на углу, чтобы купить сигареты в магазине, где можно было также съесть мороженое или выпить содовой. Этот магазин существовал издавна, держала его одна еврейская семья. Стоило мне зайти в него, как я сразу прирос душой к этому месту, его дремотная, сумеречная атмосфера напомнила мне магазинчики из моего детства, куда я забегал, чтобы купить шоколадное драже или пакетик с арахисом. Владелец магазина, сидя за столиком в темном углу, играл с другом в шахматы. Склоненные над доской фигуры были до боли знакомы. На какой известной картине видел я нечто похожее? Скорее всего они напомнили мне сезанновских игроков в карты. Грузный седовласый мужчина в огромной кепке, надвинутой глубоко на лоб, упорно смотрел на доску, хозяин же поднял на нас глаза.