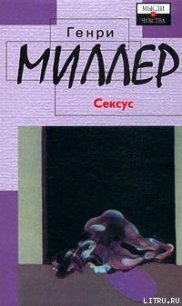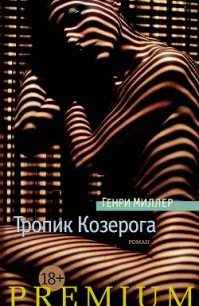Нексус - Миллер Генри Валентайн (серия книг TXT) 📗
Купив сигареты, мы решили съесть мороженого.
— Простите, что отрываем вас от игры, — сказал я хозяину. — Знаю по собственному опыту, каково это.
— Вы играете в шахматы?
— Довольно скверно. Хотя и провел за ними не один вечер. — Затем, без всякой задней мысли и, уж конечно, не желая вовлекать его в длинную дискуссию, я упомянул о шахматном клубе на Второй авеню, куда частенько захаживал в свое время, о кафе «Роял» и прочих местах.
Мужчина в кепке поднялся со своего места и подошел к нам. По тому, как он с нами поздоровался, я понял, что нас приняли за евреев. У меня на душе потеплело.
— Значит, вы тоже любите шахматы? — сказал он. — Замечательно. Может, сыграем?
— Не сегодня, — ответил я. — Мы решили подышать воздухом.
— Живете поблизости?
— На этой улице. — И я назвал номер дома.
— Выходит, у миссис Сколски? Я ее хорошо знаю. У меня в квартале отсюда магазин мужской одежды… на Мертл-авеню. Заходите как-нибудь, милости просим.
С этими словами он протянул мне руку и прибавил:
— Моя фамилия — Эссен. Сид Эссен. — Моне он тоже пожал руку.
Мы назвали себя, и он снова пожал нам руки. У него почему-то был чрезвычайно довольный вид.
— Значит, вы не еврей? — спросил Он.
— Нет, — ответил я, — но меня часто принимают за еврея.
— Но ваша жена — еврейка? — Эссен внимательно посмотрел на Мону.
— Нет, в ней течет цыганская и румынская кровь. Она родом из Буковины.
— Как интересно! — воскликнул Эссен. — Эйб, где там те сигары? Предложи мистеру Миллеру, пожалуйста. — Он повернулся к Моне. — И пирожных для миссис Миллер.
— Но ваша партия… — замялся я.
— Да пропади она пропадом! — отмахнулся Эссен. — Мы просто убивали время. Так приятно поговорить с такими людьми, как вы и ваша очаровательная жена. Она, наверное, артистка?
Я кивнул.
— Сразу видно, — сказал он.
Так завязалась беседа. Проговорили мы около часа, а может, и больше. Эссена явно заинтриговало мое теплое отношение к еврейству. Пришлось пообещать, что я вскоре зайду к нему в магазин. Если будет желание, можем сыграть партию в шахматы. У него сейчас там тоскливо, как в морге, прибавил Эссен. Клиентов почти не осталось. Непонятно, зачем он еще держит этот магазин. Когда, прощаясь, мы вновь обменялись рукопожатием, Эссен выразил пожелание познакомить нас с семьей. Он счел бы это за честь. К тому же мы его ближайшие соседи.
— У нас появился новый друг, — заметил я, неторопливо шагая рядом с Моной по улице.
— Он прямо влюбился в тебя, — сказала Мона.
— Похож на славного пса, который ждет, чтобы его погладили ипотрепали за ухом.
— Он, наверное, очень одинок.
— Кажется, он говорил, что играет на скрипке?
— Да, — ответила Мона. — Помнишь, он еще упоминал, что раз в неделю у него дома собирается струнный квартет? Или собирался?
— Помню. Как все-таки евреи любят скрипку!
— Мне кажется, он думает, что в тебе все-таки есть капелька еврейской крови, Вэл.
— Кто его знает! Может, и есть. Во всяком случае, стесняться этого не стал бы.
Воцарилось неловкое молчание.
— Поверь, в моих словах не было никакого намека, — сказал я наконец.
— Я знаю, — отозвалась Мона. — Не бери в голову.
— Еще они здорово играют в шахматы. — Я говорил как бы сам с собой. — И любят делать подарки, ты заметила?
— Может, сменим тему?
— Как хочешь! Извини. Мне они просто нравятся. Не знаю почему, но когда я знакомлюсь с настоящим евреем, мне кажется, что я дома.
— Просто они сердечные и великодушные — как и ты, — сказала Мона.
— А я думаю, потому, что они древний народ.
— Тебе надо было родиться в другой стране, Вэл. Не в Америке. Ты находишь общий язык со всеми, кроме своих соплеменников. Ты отщепенец, Вэл.
— А ты? Ты тоже не очень уютно себя здесь чувствуешь.
— Это правда, — ответила она. — Заканчивай поскорее роман и сбежим отсюда. Мне все равно, куда мы поедем, но сначала ты должен увидеть Париж.
— Согласен! Но мне хочется повидать и другие города… Рим, Будапешт, Мадрид, Вену, Константинополь. И в твоей Буковине побывать хочется. А еще в России… в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде… Представь, пройтись по Невскому проспекту… там, где ходил сам Достоевский! О таком можно только мечтать!
— Все в наших руках, Вэл. Мы можем ехать куда хотим… никто нам не помешает.
— Ты правда так думаешь?
— Не думаю, а знаю. — И вдруг, повинуясь внезапному порыву, выпалила: — Интересно, где сейчас Стася?
— А ты не знаешь?
— Конечно, не знаю. С тех пор как вернулась в Америку, не получала от нее ни строчки.
— Не переживай. В конце концов она объявится. В один прекрасный день будет стоять на твоем пороге как миленькая!
— В Европе она стала совсем другой.
— В каком смысле?
— Даже не знаю. Просто другой. Более нормальной, что ли. Ей нравились определенные мужчины. Вроде того австрийца, о котором я тебе рассказывала. Она считает его благородным, внимательным и терпимым.
— Как ты думаешь, у них что-нибудь было?
— Кто знает? Они ни на минуту не разлучались, словно были влюблены друг в друга по уши.
— Словно? Как это понять?
Мона заколебалась, а затем произнесла пылко, будто эта мысль причиняла ей боль:
— Женщина не может влюбиться в такого мужчину! Ни одна! Он заискивал перед ней, полностью покорился ее воле. И ей это нравилось. Возможно, с ним она почувствовала себя женщиной.
— Не похоже на Стасю, — сказал я. — Ты думаешь, можно до такой степени измениться?
— Не знаю, что и думать, Вэл. Мне просто грустно. Я потеряла близкого друга.
— Чушь! — возразил я. — Друга так просто не потерять.
— По ее словам, у меня слишком развит собственнический инстинкт, слишком…
— Возможно, он проявился в общении с ней.
— Никто не понимает ее лучше, чем я. Мне хотелось только одного — видеть ее счастливой. Счастливой и свободной.
— Так говорят все влюбленные.
— Это выше любви, Вэл. Гораздо выше.
— Что может быть выше любви? Разве любовь не высшая ценность?
— Думаю, у женщин все немного иначе. Мужчинам трудно это понять.
Боясь, как бы наша дискуссия не переросла в спор, я постарался направить ее в другое русло. Пришлось даже притвориться голодным. К моему удивлению, она сказала, что тоже хочет есть.
Мы вернулись в нашу квартиру и устроили целое пиршество — pate de foie gras [69], холодная индейка, салат, — запивая все эти деликатесы отличным мозельским вином. Вдруг я почувствовал неудержимое стремление сесть за машинку и начать наконец писать по-настоящему. Чем был вызван это порыв? Нашим разговором, перспективой путешествия, встреч с удивительными городами… перспективой новой жизни? Или тем, что удалось помешать нашему разговору перерасти в ссору? (Стася — такая деликатная тема.) А может, причиной было знакомство с этим евреем, Сидом Эссеном, всколыхнувшее наследственную память? Или всего лишь удобство нашего жилья, чувство защищенности, уюта, настоящего семейного очага? Когда Мона убирала со стола, я произнес:
— Если б научиться писать, как говоришь… писать, как Горький, Гоголь или Кнут Гамсун.
Она подарила мне взгляд, которым матери смотрят на лежащего у груди ребенка.
— Зачем тебе писать, как они? Пиши, как Миллер, — будет гораздо лучше.
— Если бы я мог так думать! Бог мой! Разве ты не знаешь мою беду? Я — хамелеон. Если восхищаюсь писателем, сразу же начинаю ему подражать. Научиться бы подражать себе!
— Когда ты покажешь те страницы, что уже написал? — спросила Мона. — Мне не терпится их прочитать.
— Скоро, — ответил я.
— Они о нас?
— Думаю, да. А о чем еще я могу писать?
— О чем угодно, Вэл.
— Это ты так думаешь. Ты никогда не осознавала мои реальные возможности. Что ты знаешь о борьбе, что я постоянно веду? Иногда мне кажется, что я потерпел полное поражение. Удивляюсь, почему я вообще решил, что могу писать. А вот всего лишь несколько минут назад я писал как сумасшедший. Разумеется, мысленно. Стоит сесть за машинку, и я сразу становлюсь истуканом. Это удивляет меня. И раздражает. А знаешь ли ты, — продолжал я, — что Гоголь в конце жизни ездил в Палестину? Странный он все же тип, этот Гоголь. Можешь представить, что такой вот сумасшедший русский умирает в Риме? Интересно, а где умру я?
[69] Паштет из гусиной печенки (фр.).