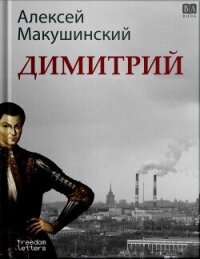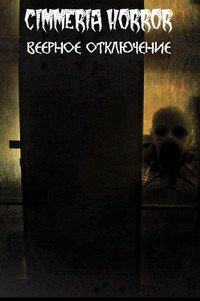Город в долине - Макушинский Алексей Анатольевич (книги регистрация онлайн бесплатно .TXT, .FB2) 📗
Товарищ Сергей, партийная кличка. Почему именно Сергей, я не знаю, Двигубский об этом не пишет. Он много раз, мне кажется, пытался придумать ему настоящее имя, какое-нибудь мещански-простецкое (Иван Прямков, Филипп Круглов, однажды даже Артемий Углов), отбрасывая их все, оставаясь один на один с рокочущим псевдонимом. А у них и не было никаких настоящих имен (тетрадь № 3). Бронштейн, Скрябин, Апфельбаум и Розенфельд… Розенкранц и Гильденстерн. Что за вздор, честное слово. Их псевдонимы и есть настоящие их имена. Они никогда людьми не были, всегда были масками. Его биография? Его биографию Двигубский тоже продумывал довольно тщательно… и в конце концов, довольно безуспешно; в тетрадях я нахожу теперь длинные списки большевиков и левых эсеров, в основном – чекистов, с присовокуплением биографических данных разного рода. Происхождение этих персонажей, как мне кажется, не в последнюю очередь его занимало. Он сын священника, сын учителя, сын нотариуса? Он из купцов, из мещан, из мелких дворян? Автор, кажется мне, так до конца и не сделал свой выбор. Но важно, что он – местный, пишет Двигубский, что он из этого города, что его здесь все знают. Нет, этого мало, пишет Двигубский уже во второй тетради. Как-то отец его должен быть связан с отцом Григория, вот что! Его отец – управляющий имением? Его отец – врач сельской больницы, построенной на деньги Гришиного отца? Все это уже очень сильно отзывается, конечно, Набоковым. Читал ли он «Круг», побочный продукт бессмертного «Дара»? Там был учитель, и была школа. Школа Двигубскому нужна была для другого, другой; сделать товарища Сергея (Углова, Прямкова…) сыном сельского учителя он, конечно, не мог. А почему бы, пишет П. Д., отчаиваясь, не сделать его просто-напросто сыном священника, в память обо всех Чернышевских? Отец Гришу крестил, сын Гришу убьет… Он отбрасывает, похоже, и эту мысль, потому, может быть, что в приводимых им же самим списках нет, если я ничего не проглядел, ни одного чекиста из духовного звания (а вот дети учителей представлены как раз в немалом количестве). В одной из поздних записей появляется сын ссыльного народовольца, осевшего некогда в городе, окруженного почтительным вниманием местной интеллигенции; мысль, которую автор тоже, тут же, отбрасывает, пугаясь, понятное дело, отмечаемого им самим сходства с «Бесами». Этих сходств и так предостаточно. Ну да, Степан Трофимович и Петруша, пишет он, все это уже было, все это уже было… Послать бы все к черту… Я и послал бы, пишет он (летящим почерком, падающим в полете), давно послал бы, если бы не Григорий… Наша мюнхенская встреча с Виком произвела, похоже, на Двигубского впечатление сильнейшее; в поздних тетрадях и рукописях внешность товарища Сергея, не изменяясь, как будто проясняется для самого автора; появляется в придачу ко второму подбородку еще один, третий, а то и два (третий, четвертый); Двигубский делает его, пожалуй, еще более отталкивающим и обрюзгшим, чем был в Мюнхене Вик, сквозь расплывшийся облик которого все-таки, пускай совсем втайне, просвечивал бывший красавчик. Воспоминания о Вике накладывались, похоже, у П. Д. на облик Азефа, фотография которого (та известная, где великий провокатор стоит рядом со своей кафешантанной толстой красавицей в воде, в комическом купальном костюме начала века, оттопырив нижнюю губу и выпятив круглое брюхо), не знаю откуда вырезанная, соседствует в его бумагах с изображениями Белы Куна, С. А. Саенко (коменданта Харьковской ЧеКи и бывшего каторжника; в мохнатой шапке, с винтовкой наперевес), лохматого Петерса, Ягоды с черными сопельками усиков под ноздрями. Меня всегда поражала неопрятность этих людей (не всех, но многих), их замызганные рубашки, их чудовищные манеры, их чавканье за столом. Неопрятность, особенно отвратительная тем, что сочетается обыкновенно с какой-то мерзкой изысканностью деталей, с какими-нибудь особенными, действительно, усиками, запонками, ногтями. Единственный, пожалуй, персонаж моей юности, про которого я точно знал, что он стукач и с которым мне пришлось как-то просидеть часа два за одним поганым застольем, прежде чем нашелся благовидный предлог смыться, плевался, чавкал, чуть не хрюкал намеренно, угрюмо и радостно, с полным сознанием своей силы и власти; под ногтями была у него двухнедельная грязь; на шее волдырь; пуговицы на рукаве не хватало; с волос слетала ядовитая перхоть. А галстучек был при этом подобран с умыслом, с любовью и шиком, галстучек такой тоненький, черненький, каких тогда не носили, и с золотой, рубинчиком завершавшейся стрелкой, прижимавшей друг к другу узкий и совсем узкий галстучный кончик… Через двадцать лет я встретил его двойника, с той же перхотью на плечах, с теми же засаленными рукавами рубашки и с почти таким же узеньким галстучком в облике немецкого адвоката, после какой-то общественно-полезной, глупейшей лекции, когда публика уже готова разойтись по домам, но зачем-то еще стоит и скучает с бокалом вина в одной и соленым крендельком в другой руке, все пытавшегося, с милейшей, сдобной, слоистой улыбкой, добиться от меня, что я, собственно, делаю у них в Германии и не собираюсь ли, наконец, восвояси; адвокат, сказали мне после, был известный неонацист; на тугой сардельке безымянного пальца тоже сидел у него перстень с печаткой.
Сколько ему лет (возвращаюсь к тетрадям Двигубского)? Тридцать пять, сорок… Он родился в начале 80-х годов; для простоты допустим в 1884 году, то есть он на пять лет старше Всеволода, на десять лет старше Григория. Эти пять лет решающие – в 1905 году ему двадцать один год, он участвует в революции. Первая ссылка, побег, экспроприации, как стыдливо называли они грабеж, рабочие кружки, подпольная типография, заграница. Путь революционера. В 1909 году он оказывается в Париже. Ему двадцать пять лет, Всеволоду двадцать. Нет, пускай Всеволоду девятнадцать, даже только что исполнилось девятнадцать, пускай это будет 1908 год, например. Товарищ Сергей разыскивает Всеволода («земляки»). Давняя связь между ними, Всеволод помнит товарища Сергея (тогда еще Углова, Прямкова…) студентом, которому его, Всеволода, отец помог выпутаться из первой «истории». Всеволод к восьмому и девятому году уже излечился от революционного наваждения; Всеволод изучает историю искусств и собирается стать писателем. А все же этот товарищ Сергей интересен ему, влечет его. Влечет Всеволода как писателя, как будущего писателя – или так, по крайней мере, он говорит себе, пытается себя убедить. На самом деле это не так. На самом деле Всеволод подпал под эти черные чары, соблазнился ими, пусть и ненадолго… Тому двадцать пять, он даже еще не очень толстый, он опален подпольем, он рассказывает вещи, для Всеволода почти мифологические, о побегах, о нравах пересыльной тюрьмы, о спорах ссыльных в Царевококшайске. Вся жизнь у него впереди. Интересная, опасная жизнь. Он и революционер, и бонвиван. Вот сочетание, Всеволода соблазнившее. Он предается партийным полемикам днем и прелестям публичных домов вечерами. В жизни Всеволода начинается, как начинается она в любой жизни, только в моей ее не было или почти не было (пишет Двигубский), эпоха разврата, разврата образца 1908 года, того замечательного декадентского разврата, который мы себе почти не можем представить через сто лет. Хотя что, собственно, было в нем замечательного? Ну, бляди и бляди. Парижские дорогие бляди, сценки из Тулуз-Лотрека, чулки, и шляпы, и длинные папиросы в длинном мундштуке. «До самого локтя перчатки». Опиум, отдельные кабинеты. На все это нужны деньги. У него денег очень много, у этого товарища Сергея, непонятно откуда. То ли он партийную кассу растрачивает, как Парвус, то ли он двойной агент, как Азеф. А Всеволоду вот это, может, и нравится. Ему нравится, что дело здесь не чисто. Ни с какой точки зрения. Ни с революционной, ни просто с человеческой, «обывательской». Разврат, и грязь, и опасность. А вместе с тем вызов, воля и злость. Он чувствует себя победителем истории, этот товарищ Сергей. Сейчас мы в подполье, но послезавтра мир будет наш. Поэтому мы уже сейчас живем полной жизнью, такой жизнью, какая вам и не снилась. Поэтому все озарено светом будущего, даже поход к блядям на Пигале. Никаких связей, кроме партийных, у него нет. Ни среди русских в Париже, ни, того менее, среди собственно парижан. А ему хотелось бы. Он нужен Всеволоду как проводник по кругам порока, а Всеволод ему как Вергилий в совсем других кругах (если не рай, то чистилище…). Есть легкая достоевщинка, разумеется, в отношениях этого мещанского сынка с барчуком. Ну, как же, вы вот… аристократы, а мы люди простые, манерам не обучены. Так что вы уж лучше не знакомьте меня, Всеволод Константинович, ни с графиней Паниной, ни с маркизом де Шуазель. А то я возьму и какую-нибудь гадость сделаю в ихней гостиной, рыгну али пукну… хе-хе. Да у меня и перчаток-то нет подходящих, о фраке уж умолчим. А на самом деле только и жаждет, чтобы Всеволод его познакомил. Всеволод представляет его, конечно, как значительную личность, крупного подпольщика, только что из России, инкогнито. Тоже своего рода пропуск в высшее общество. Еще бы, мы же все за революцию. Дамы заинтригованы, господа подкручивают усы. Да-с, приятные господа, воспитанные. А дамы… дамы… где уж нам, обывателям… сплошные тебе позументы, декольте… закачаешься. А качаться все ж таки они будут, да-с, на фонарях, на фонариках. Вот этой вчерашней графинюшке горлышко-то мы перережем. А что вы думаете, кстати, о Пшибышевском? Ему Всеволод еще нужен как Вергилий по современной («декадентской») литературе. Он же ничего не читал, кроме «Эрфуртской программы». Но теперь он «образовывается», хочет быть au courant. Усердие самоучки. Каждый день по два часа. Программа чтения. В ссылке была другая программа: Маркс, Каутский, Маркс, Плеханов, Энгельс, Каутский, Маркс. Теперь: Пшибышевский, Стриндберг, Арцыбашев, Бальмонт, Брюсов, Стриндберг, Метерлинк, Арцыбашев, Мережковский, Стриндберг, Анри де Ренье. Всеволод видит эти списки; старается удержаться от смеха. Есть угрюмое упорство в этом, как во всем, что делает Углов и Прямков. Даже в пьянстве его и разврате есть какое-то упорство. Злость. Как если бы он и здесь добивался какой-то цели. Непонятно только какой. Какая здесь может быть цель, думает Всеволод, это же сама бесцельность, это же так. Но у товарища Сергея ничего не бывает так, у товарища Сергея все со всем связано, все кажется частью какого-то одного большого плана. Никакого плана, конечно, нет, а Всеволоду все кажется, что есть, что все как-то зловеще осмысленно, как-то чудовищно не случайно… Дело заканчивается внезапным отъездом светлой личности из Парижа, исчезновеньем, как будто его и не было. Дело для Всеволода заканчивается мучительными визитами к венерологу (на рю Монмартр; дорогому, грубому и веселому). Остаются воспоминания, которых он еще долго потом стыдится, мерзкий, горький привкус, от которого долго не может избавиться, который отравляет для него все, что он делает, даже все, что он думает. Запах цинковой мази изо всех щелей жизни.