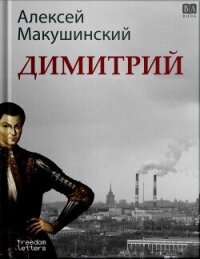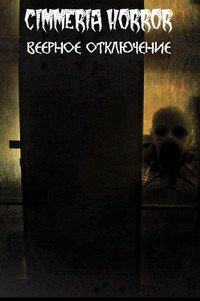Город в долине - Макушинский Алексей Анатольевич (книги регистрация онлайн бесплатно .TXT, .FB2) 📗
Все это, позволю себе напомнить, только реминисценции, взгляды в прошлое, вновь и вновь бросаемые, не столько даже героем, сколько автором, по ускоряющемуся ходу повести, устремленной к своей ужасной развязке. Иногда, впрочем, замирающей в этом стремлении. На другой день, к примеру. На другой день, пишет Двигубский, переменилась погода; небо надвинулось рваными черными облаками; капли то и дело принимались бить по карнизу; в гостиничном саду что-то хлюпало, всхлипывало; деревянная бочка под желобом колебалась, покачивалась; пузыри бежали по ее черной, в цвет неба, через край плескавшей воде, с дрожащими веточками, кружащимися березовыми желтыми листьями в ней. Григорий, собиравшийся поехать снова в имение, посмотрев на все это, закрыл окно; снова заснул. Он вдруг почувствовал всю усталость последних трех лет; всю сразу; всю эту тяжкую, безрадостную усталость, которая как будто собиралась, сгущалась в нем; вот вырвалась, вдруг, наружу; захлестнула его. Он пролежал в постели до вечера, просыпаясь, вновь засыпая; даже не пытаясь читать; в полудреме вспоминая вдруг что-то… отрадное, страшное. И точно так же пролежал он весь следующий день, такой же всхлипывающий, смутный и сумрачный – понимая, конечно, что отлеживаться следовало бы в каком-нибудь другом месте, не столь опасном, но не в силах встать, изменить что-нибудь, убаюканный этим дождем, боем капель, привычностью комнаты, кровати, балдахина, комода. Лишь под вечер этого второго дня, после обеда, как и накануне принесенного ему в номер – все тем же, с по-прежнему проступающей на щеках небритостью, вертлявым, наглым и скрыто неприязненным половым, начал, понемногу, приходить в себя, просыпаться; вышел на улицу, снова, впрочем, пустынную, замершую; дошел до Соборной площади, безлюдной, с мокрым блеском на безмолвном булыжнике; возвратившись в номер, взял ванну; полистал бумаги, привезенные из имения… язвительные бабушкины письма, отцовские записи о падении всего, прощании с прошлым. И когда опять заснул, наконец, то заснул уже здоровым, спокойным сном; проснувшись, сказал себе, что сегодня или завтра уедет, что вот и этот эпизод жизни закончился; вот и отлично; вскочив с постели, обнаружил за окном мерцающе пасмурный, без дождя, с просветами, день; обнаружил уже осенний, бодрый, яблочный холод. Кололи дрова где-то рядом, в каком-нибудь, наверное, из соседних дворов; отчетливый, глухо-древесный стук поленьев, ударяемых о колоду, разносился в этом холодном и бодром воздухе как будто с легкой заминкой, задержкой, словно задумываясь после каждого удара о чем-то своем, ни одному человеку не ведомом. Il me semble, bercé par ce choc monotone, qu’on clou en grande hâte un cercueil quelque part… Вслед за Бодлером вспомнился, конечно же, Всеволод, повторяющий, глядя в пространство, эти волшебные строки об осенней колке дров, убаюкивающей, а все-таки похожей, слишком похожей на заколачивание гроба, где-то там, в соседнем парижском дворе… А вместе с тем было что-то привычное, милое, мирное, что-то почти домашнее в этом мерном далеком стуке, ударе и отскоке поленьев. Уездный русский город, осень, пахнет дымком и яблоками, колют дрова. Ничего плохого не может с тобой случиться. Иван Людвигович Губер, заглянувши к нему в номер, изо всех сил уговаривал его уехать не завтра и не сегодня, а уехать сейчас и немедленно, скоро должен быть поезд, он точно знает, на юг, на Ростов. Вот и уезжайте в Ростов, на юг, в тыл. Да куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Ведь вас же первого схватят, если… Gott bewahre, не дай бог. Уезжайте, уезжайте же, наконец, Григорий Константинович, говорил он, пристально и с мольбою глядя на Гришу усталыми, светлыми, выцветшими, отчаянными, отчаявшимися глазами. А что же сам он, Иван Людвигович? А ему уже все равно. Ему уже недолго осталось. И… он, пожалуй, больше не хочет. Уже насмотрелся… на все это, ну и… довольно. Да, вот так, не спорьте, Григорий Константинович, не возражайте. Он простой человек, Gastwirt, но он… он больше не согласен. Не согласен больше с этой жизнью, этим миром, этим светом, слишком не белым. Nicht mehr einverstanden. Вот так-то.
Есть варианты повести, в которых Двигубский отправляет его для начала и еще раз – в имение, где, собственно, делать ему – не столько даже герою, опять-таки, сколько автору, а вместе с ним и читателю – уже нечего; все уже было; все повторяется (и лёва, и Мнемозина…); соответственно и разваливается; почерк становится почти нечитаемым, фразы обрываются, недотянув до точки, на полу– и четвертьслове. Еще в некоторых вариантах (ранних) возникает земельный вопрос (говоря языком официально-газетным). Григорий ведь в сущности – местный помещик, сын крупнейшего в губернии землевладельца. Он отказывается от своих притязаний. В одной из ранних рукописей нашел я длинный разговор на эту тему с уже упомянутым выше побочным неубедительным персонажем, бывшим директором бывшего Азиатского банка, членом городской думы эпохи Временного правительства (бородка, неискренние глаза). Григорий в разговоре этом заявляет, что стоит на позициях непредрешения земельного вопроса вплоть до созыва Учредительного собрания; прямо так в газете и напечатайте. Разговор этот вряд ли дожил бы до окончательной правки.
Были люди на этот раз, в зданье вокзала; крестьяне, сидевшие на мешках; какие-то непонятные личности, каких много перевидал он за эти годы, всегда едущие куда-то, что-то везущие, с наглыми мордами, кокаиническими глазами; один какой-то седой господин, почтенный, сердитый; две сестры милосердия; одна из них хорошенькая, с нежной, легко красневшей, как у блондинок часто бывает, кожей; в самом деле покрасневшая при Гришином появлении: розовым, снизу вверх, от шеи к щекам идущим румянцем; опустившая глаза; вновь, сквозь вторую волну румянца, поднявшая их на Гришу. И было одно какое-то, краткое, как щелк пальцев, мгновение, когда он уже готов был подсесть к этим двум сестричкам, заговорить с ними о поездах и погоде; и совершенно ясно, с веселым удовольствием представил себе, как о совсем другом говорили бы они глазами с блондинкой, как смеялись бы ее глаза, отвечая на его взгляд; и затем вышел все-таки на дебаркадер, как будто вновь возвращаясь в уже сделавшийся за эти несколько дней ему привычным строй мыслей и чувств, один, с горестным сознанием тяжелой значимости этого, в его жизни скорее всего последнего отъезда отсюда, с этой станции, с которой и на которую он всю жизнь приезжал, уезжал. Но можно ведь и вести две темы сразу; легкую рядом с тяжелой; и вернуться, и заговорить с блондинкой, почему бы и нет? и кто знает, что может из этого получиться; и он все равно будет помнить, навсегда запомнит, этот последний отъезд, эти рельсы, этот черный угольный блеск между рельсами. Он не вернулся в зал ожидания; он бросился бежать вместе с выбежавшей на дебаркадер толпою, под треск выстрелов, звон стекла, визг, крик, стук. Слово «налет» перекрыло на мгновение все звуки. Григорий, спрыгнув с платформы, перемахнув через рельсы, по осыпавшемуся под ногами щебню сбежал с железнодорожного полотна, поскользнулся на мокрой траве, не упал, выровнял бег. Он все сознавал и все видел, этот щебень, эту траву… с той ясностью, которую так ценил в себе, которая так блаженно обострялась в нем в минуты опасности; с привычным удивлением перед чем-то. Хорошо бежать, легко, весело. И весело, что весело; смешно, что весело. Трава, небо. Холод, уже осенний. Как же они так ловко… Сестричек не было видно, нагломордых личностей тоже. Начались сараи, огороды, заборы; выстрелы смолкли; Григорий остался один; рукопись обрывается. Какими-то этими огородами, задворками, переулками, берегом реки, огибая железнодорожный мост, где стояли, конечно, покуривая, поплевывая в воду, увешанные пулеметными лентами головорезы, Григорий, судя по наброскам, которые я и цитирую, должен был пробраться обратно в гостиницу; хозяин оной, Иван Людвигович Губер, прячет его на чердаке; достает для него штатский костюм. Вот на этом-то на чердаке сидючи, и видит он Кудеяра с Лидией, торжественно едущих по Елизаветинской улице.