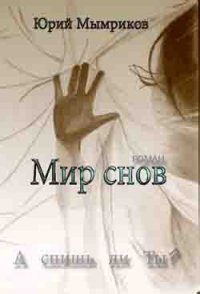Улица Грановского, 2 - Полухин Юрий Дмитриевич (читаем книги онлайн без регистрации TXT) 📗
большая наука только скандалами и жива… Так вот, в сорок восьмом году, после знаменитой сессии ВАСХНИИЛа, – успокоившись, продолжал рассказывать Глеб, – Панин из генетики пришел в физиологию и начал разрабатывать теорию ориентировочного рефлекса…Тут придется вам еще одну лекцию выслушать, иначе ни черта не поймете. Давно был известен факт: когда мы видим, слышим что-либо неизвестное для себя, кровеносные сосуды, особенно в конечностях, в пальцах, мгновенно сжимаются: для обработки новой информации мозгу нужна дополнительная энергия, и кровь устремляется туда. Так Панин придумал плейсмограф – этакий стеклянный наперсток с датчиком, который точно измерял объем кровотока. Лаборант своим же сотрудникам насовывал этот наперсток и луженым голосом начинал диктовать: «Скрипка, сопка, контрабас, унитаз» – любой ряд слов! Раз, второй, третий, пока не вернутся сосуды к норме: значит, информация где-то осела, рефлекс на новизну сменился реакцией памяти.
И вот тут-то проделывали фокус: вместо «скрипки» говорили «скрепка» – всего-то одна буква в одном слове менялась, а голос тот же, эмалированный. Испытуемый и не замечал ничего, но стрелка на плейсмографе сразу дергалась – сосуды сжимались. Стало быть, на новый сигнал не сознание – подсознание реагировало, подкорка, лимбическая система, Изящная методика, правда? – спросил Глеб и подтвердил, рывком откинув пепельные свои кудри со лба: – Элегантная! За нее сразу десятки ученых ухватились, особенно – фрейдисты: как же! – впервые точным контролем поймали за хвост подсознание. На этой методике Панин, как на белом коне, во всю мировую ученую прессу въехал. И тут бы ему пахать да пахать – целина, Клондайк! Ученики-то его и последователи до сих пор пашут, шарятся, и случается, самородки находят. Но он даже аспирантам своим запретил в работах на его имя ссылаться. Вот и мне – слышали, что сказал? – с внезапной обидой, уж очень незащищенной, спросил Глеб, пристукнув кулаком о колено, и скрипуче передразнил Панина:
– «Скандалить-то вам придется, Глебушка». Слышали?.. А может, я уж – Глеб Иваныч, а не Глебушка?.. И вот так – ни за что ни про что брать его идею?.. Конечно! Ему это ничего не стоит: он в последние годы спешит – жаль время тратить на детали. Но мне-то, мне каково?.. Для него – деталь, а тут работы, может, на годы целой лаборатории! Имею ли я право?..
Он замолчал. Я не ответил ему. Да он и не ждал ответа: не со мною, а с Паниным спорил. Вздохнув, вернулся к рассказу.
– Наверно, как раз после плейсмографа своего он и начал эту гонку. Тогда приехал на стажировку в наш институт американец один, молодой парень
– Ленкок, сын известного физиолога. И привез с собой вот такой же микроманипулятор, как этот, чтоб с электродами в мозг залезать, в клетку. Для нас тогда – невидаль.
Меня-то еще здесь не было, но рассказывали: сбежался весь институт смотреть на приборчик. Ну, и Панин все прежнее бросил, а стал с американцем работать. Со своей, конечно, темой – с гиппокампом. Тут как раз случай с Таневым вовремя подвернулся: для хорошего ученого всякий случай – вовремя… Директор института, академик – теперь уж покойник, не стоит фамилию называть – навалился на Панина: «Как вы можете отступаться от своего! Только развернулись работы по ориентировочному рефлексу, это не только ваша – институтская марка! А вы? Вам что, одни сливки снимать?..»
Ну, а Владимир Евгеньич – ни в какую: «Для меня рефлекс этот – лишь тропка к проблемам памяти, всего одно дерево в лесу». Отношения у них – хуже некуда.
И как нарочно еще такой сюжет произошел. Симпозиум.
Сообщение Панина, самостийное: нейроны гиппокаллпа – детекторы новизны, а весь гиппокамп – компоратор, гигантское сравнивающее устройство, и вообще структура эта – заблокированная, уникальная для мозга… Ну, что поднялось! Академик, директор панинский, на трибуну выбежал и криком закричал: «Это в корне противоречит марксистской теории отражения! Как можно! – в нейроне найти мысль? Мысль нематерьяльна!
Подкоп под ленинизм!..» На симпозиуме этом я, еще студентом, но был тоже. Зал притих. Слышно даже, как стаканчик с боржомом о зубы академика клацает, – разволновался. Роскошный был дед: борода лопатой, грудь – бочка, голос – дьякона. И уж после него на трибуну никто не идет. Молчат. Мол, панинское дело – гроб, и теперь, после академика, выступать все равно что венки с лентами на крышку укладывать, – кому охота?..
Но вышел Панин. Опять. Все ждут, сейчас оправдываться начнет, извиняться. Куда там! – прет свое, как танк, но жидким таким голоском: «Получается, если верить академику имярек, психика и разум человека вообще не зависят от мозга. Не противоречит ли это ленинской теории отражения? Что же, мысль порхает в субдуральном пространстве, в пустоте между мозгом и черепом? Не надо примитивизировать мои слова о детекторе новизны: мысль не продукт одного нейрона, а процесс, в котором участвует множество нервных клеток различных структур мозга. К сожалению, мы пока не можем проследить весь процесс. Но перекличка нейронов гиппокампа и большой коры при реакции на новизну четко фиксируется на пленке, хочет этого академик имярек или нет». Тут пару раз вякнул кто-то из зала. Панин эти выкрики затюкал спокойненько, и тогда зал совсем замер. Скандал! Не так уж часто случается, чтоб начинающий физиолог публично высек академика да к тому же собственного своего директора. Ясное дело, закатилось солнышко Владимира Евгеньича безвозвратно!.. Наверно, он и сам так подумал: с трибуны – и прямо к выходу, худущий, маленький, но прямой, как восклицательный знак. Это сейчас он ссутулился.
А тогда, со спины – мальчишка! – Глеб засмеялся, довольный.
Дверь открылась, заглянул бледный, белесый парень в лыжной куртке, весь какой-то выцветший, сказал:
– Я ухожу, Глеб Иванович. Ключ в дверях. До свиданья.
Глеб, взглянув на часы, кивнул ему.
Прошуршал кролик в клетке, стуча лапами, подошел к миске с едой, понюхал, но есть не стал, опять забился в угол. Глеб, должно быть, проследил за моим взглядом, сказал насмешливо:
– А кролика-то вы зря жалеете… Оперировали его под наркозом, электроды эти он вовсе не чувствует, жизнь у него хлебная и не пыльная. Зря!.. Жалеть не кролика надо… Вы приметили цвет лица у этого паренька, что сейчас заходил? – тонированный под известь на стенах. Лаборант. Восемьдесят рублей зарплата, учится в заочном институте, а я его еще иногда часов до двенадцати, а то и всю ночь держу: как серия опытов пойдет, ее не оборвешь… Вот его – надо жалеть.
– А какая у вас зарплата, Глеб?
– Нормальная. Сто десять, – нехотя ответил он и заспешил: – Пора и нам?
Я встал. Он что-то искал в карманах, уже на пороге стоя.
– Так чем же кончилась эта история?
– С Паниным-то?
– Да. Затоптали?.. Вы ключ, что ли, ищете? Так лаборант сказал: в дверях.
– А, да… Вы – чудак. Я же вам про его рожденье рассказывал, предпоследнее, а вы… Академик-то, хоть и холеная борода, но мужик оказался настоящий: через две недели добился для панинских подпольных экспериментов новой лаборатории. А потом и извинился перед ним, опять же публично, закатил ему басом настоящий акафист: «Начинается новый этап физиологии мозга, и у истоков его – наш коллега…» Ну, и так далее!..
Это Глеб рассказывал, когда мы шли уже по коридору к выходу, и ко мне не оборачивался; сбоку, из-за рассыпавшихся его кудрей я видел только тонкий, с горбинкой нос и угол губ, капризно изогнутый.
На улице шел снег. Разлапые, ленивые хлопья его таяли, не долетев до земли, – на ветках деревьев близ тротуара, на стенах, окнах домов… Прохожие сутулились, морщились – лица их были мокрые, словно заплаканные.
Невольно пришли на ум сызнова строчки Давида Самойлова, – теперь они прозвучали печально:
Шумит, не умолкая, память-дождь, И память-снег летит и пасть не может…
– Вам к метро? – спросил Глеб. – Пойдемте, я вас провожу. Я люблю такую погодку. – Помолчал и буркнул: – Похоронную. – И, приметив мой удивленный взгляд, уточнил: – В сущности, любые похороны – еще и рожденье: времени года, мысли, а бывает, и человека. – Он желчно, почти зло говорил.