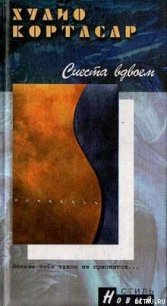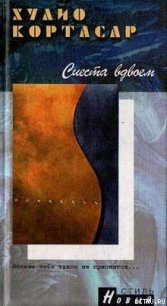Книга Мануэля - Кортасар Хулио (электронные книги без регистрации txt) 📗
– Да это и впрямь прощание, – сказала Франсина, – на твой лад, с твоим ритуалом, с лампой на полу, с рюмкой в руке.
– Не знаю, малютка, как я могу знать это сейчас, черное пятно все еще здесь, я всякий раз подхожу к порогу той комнаты и перестаю видеть и сознавать, я вхожу в черное пятно и выхожу из него изменившимся, однако не знаю почему и для чего.
– Но как я могу поддержать тебя, Андрес, чем могу помочь, чтобы ты нашел, чтобы ты вспомнил.
– Можешь вот так, можешь тем, как на меня смотришь, всем тем, что ты мне дашь в эту ночь, твои руки, и твой рот, и каждый кусочек твоего тела, и твой ум, придающий балансу равновесие, так ты поможешь мне узнать, переживем ли мы Фрица Ланга, я говорю о себе, но ты тоже часть моего мира, хотя и остаешься по сю сторону, мы узнаем, придется ли мне идти одному, надо мне еще, что-то сделать, или мы и дальше будем встречаться, как в эту ночь и в многие прошлые ночи, близкие в силу привычки и слов, будет ли верный пес повседневности по-прежнему ждать меня и вилять хвостом, будут ли пластинки, и книги, и моя квартирка, построенная Маплем, – до первого инфаркта или шикарного рака и, selfpity [124], ясное дело, и selfpity.
– Ты уйдешь, Андрес, ты уйдешь, – твердила Франсина, целуя меня и прижимаясь всем телом, уже согревшимся под одеялами. Я дал ей дойти до последних ласк, запустив руки в ее волосы, направляя ее, почти заставляя опускаться все глубже, шепча ей на ухо первые слова любовного перечня – кто скажет, сбудется или нет, проснемся мы на заре одинокими навек или выйдем опять позавтракать круассанами и сесть в такси, чтобы возобновить приятную игру, – телефонные звонки, и встречи, и понимающая улыбка мадам Франк, когда мы в который раз пойдем наверх в квартиру Франсины. Я не разрешил ей продолжать, хотя она стонала и искала меня, я отстранил ее лицо и заставил ее снова сесть, выпить коньяку, от которого у нее на глазах выступили слезы. Ты уйдешь, повторяла Франсина, ты уйдешь, ты уйдешь, Андрес. Допустим, сказал он, вот и будет завершение церемониала – орел или решка; я уже не способен искать выход разумом, мне надо сойти вместе с тобой вниз по ступеням коньяка и посмотреть, может быть, ответ найдется где-то там, в подземелье, если ты поможешь мне выйти из черного пятна, если дашь пинка в брюхо старику Лангу, чтобы он подобрал нужную комбинацию цифр в сейфе. Иди сюда, уже пора, иди, посмотришь, прежде чем мы уйдем.
Дергая ее, непонимающую, я стащил ее с кровати и подвел к окну; возможно, она плакала, я чувствовал, что она сопротивляется, не может понять, почему я одним рывком отвел штору и распахнул дверь балкона. Я прикрыл ей рот ладонью, чтобы не закричала, и, оба голые, мы вышли на балкон, я заставил ее подойти к перилам, и в сизом свете монмартрского неба она увидела кресты и надгробия, застывшую геометрию надгробий. Кажется, она вскрикнула, я снова зажал ей рот и, почувствовав, что она как-то обмякла в моих объятиях, поддержал ее над перилами – она повисла над кладбищем, впиваясь взглядом в каждый крест, в каждую чугунную решетку, во все это бессмысленное продление извечной юдоли. Не знаю, тогда ли я понял, пожалуй, нет, наверно, это произошло позже, когда я опять уложил ее, и укрыл, и заставил выпить еще рюмку коньяку, насильно раскрывая сжатые губы, дуя ей в лицо, чтобы тепло вернулось в ее груди и бедра, – теперь можно было продолжать перечень, впереди долгая ночь, и было вдоволь времени полюбоваться на кончину некоего мелкобуржуазного субъекта или на его конфирмацию, чтобы выяснить, вывел ли его спуск в подземелье на другую сторону черного пятна или же заслонил это пятно чувством снисходительности и тоски. Комедиант, кажется, сказала мне Франсина в какой-то миг, ты всегда останешься таким, всегда будешь играть в свои игры с могилами и женщинами, комедиант. Но, возможно, на балконе, там, где она не сознавала ничего, кроме своего страха (позже она среди ласк сказала, что испугалась, не хочу ли я ее сбросить на кладбище), когда я заставлял ее смотреть, узнавать тот Париж, который она и я, под влиянием повседневной лжи, и рутины, и куриной слепоты, отрицали, да, возможно, тогда-то черное пятно на какое-то неуловимое мгновение растаяло, растаяло, а потом снова всей своей паутиной накрыло мое лицо, однако что-то во мне заглянуло на другую сторону, словно проявилась конечная сумма перечня, итог баланса – и никаких слов, никаких указаний: внезапное озарение, сук подломился. Теперь мы могли продолжать пить коньяк, снова приступить к ритмично-размеренным ласкам, забыть про балкон.
Моему другу было бы очень приятно описать все по порядку, начиная с испуга и дрожи двойного подбородка у Гада в машине Ролана, с физиономии Гадихи, когда ее высадили на эспланаде возле Понтуаз, место, конечно, самое нелепое, по пути из парка Монсо во Веррьер, однако Люсьен Верней, соводитель, державший револьвер у трясущегося живота Гада, счел его наиболее подходящим, чтобы сбить с толку полицию, которая уже пустилась в активные, но покамест не слишком осмысленные поиски. Очень жаль, но связный рассказ не получался, события не хотели подчиняться слову, как положено в хорошем повествовании, – вылезали всякие «садись в машину» или «получишь пулю в брюхо» да яркая гримаса на лице с макияжем Дороти Грей номер восемь у Гадихи, скорчившейся от колик почище, чем в лайнере на Тихом океане, Ролан, ведущий машину со своим невероятным хладнокровием, тормозя за миллиметр от красного света, и уже слышен свисток, пронзающий им позвоночник до копчика, и «если шевельнешься, пристрелю» – из всего этого получалось у моего друга лишь общее впечатление сумбура, большего или меньшего абсурда в тщательно синхронизированном плане действий, упоительная сумятица экспромта, которую кое-кто назвал бы историей, Лонштейн – бардако-морфизмом, а Людмила, самая мудрая из всех, сказала бы «блуп». Так что визгтормозвиражи на скорости восемьдесят, вы не имеете права так обращаться со мной, Патрисио смотрит в упор на Гадиху, как будто перед ним некая неизвестная Линнею лягушка, вы, донья, не бойтесь, дайте мне вашу сумочку, – это мой друг считал недостойным описания, – да вы не ерепеньтесь же, мы вам замок не сломаем, мне надо только положить туда эти конверты, уж вы поймете, куда их отдать, как только откроются учреждения, ай, Вето, да что ж это творится, Господи, обычные, типичные восклицания – для моего друга скучища, – до приезда к шале, где, среди душистых сосен, под пенье соловья в соседней роще, состоялась выгрузка, уготованная только пыхтящему и потеющему Гаду, ибо Гадиха уже шла одна-одинешенька по улице, где почти не было магазинов и других светящихся опор, она не шла, а почти бежала, насколько позволяли высокие каблуки, пока с размаху не упала на мундир дежурного полицейского, каковой сперва вполне логично принял ее за шлюху, убегающую от похотливого сутенера, затем возня с этой иностранкой, не умеющей связать двух слов на языке, единственно достойном этого названия, и наконец автоматический сигнал тревоги, свистки, сирены, а через полчаса Префектура, и тут началось (мой друг уже не мог сладить со своей картотекой, лезло из нее что попало, вот хреновина), успокойтесь, мадам, и расскажите, что произошло, nom de Dieu [125], да пригласите же переводчика, старуха, видно, из какого-то посольства, аккуратная комнатка на втором этаже шале, Маркос предлагает Гаду сигарету, приносит ему рюмку коньяку, че, да это же просто безобразие, вы не имеете права так обращаться со мной, и Патрисио, опустив пистолет, глядит на него, как в фильме Раймона Чандлера, и говорит, сукин ты сын, на твое счастье, мы на вас не похожи, у нас тут нет никаких пикан, но Маркос резко прерывает эту психодраму, чтобы объяснить Гаду суть обмена и альтернативные следствия, Гад буль-буль коньяк в зоб, думает, ну, Ихинио, козел чертов, такая вот его охрана, распросукин сын, но это, по мнению моего друга, в общем-то поклеп, ибо Муравьище с отрядом боевиков уже занимался розысками, для человека вроде Ихинио, привычного к таким передрягам и имеющего зацепки повсюду, это всего лишь вопрос времени.
124
Жалость к себе (англ.).
125
Черт побери (франц.).