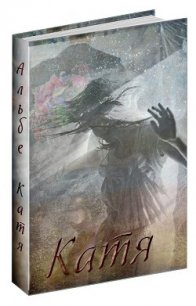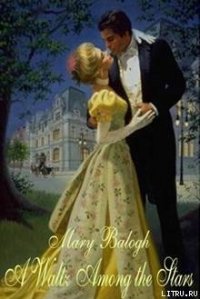День второй - Токарева Виктория Самойловна (читаем книги txt) 📗
— Невкусно! — посочувствовала Беладонна. — Она несолёная. Прямо из рыбы.
— Как это? — не поняла.
— Ворованная, — просто объяснила Беладонна. И безо всякого перехода добавила: — А ты мне нравишься. Ты женщина умственная. И Муж мне твой нравится. Очень благородный мужчина. Надёжный человек. И дочка у тебя красавица. Вообще хорошая семья. Ты куда?
Она видит, что я собираюсь уходить, и запирает дверь на все сорок четыре замка особой секретности. Я начинаю возиться с замками, объятая идеей освобождения. Во мне развивается что-то вроде клаустрофобии, боязни замкнутого пространства. Я чувствую, что, если не вырвусь отсюда, задохнусь. Беладонна стоит рядом и уже не находит меня ни умственной, ни хорошей, а как раз наоборот.
— А ты противная, — делится она. — И Муж у тебя противный, как осётр. И дочка — хабалка, никогда не здоровается.
Беладонна не может удержать меня ни коньяком, ни лестью, ни даже замками. Я отторгаюсь от неё, как чужеродная ткань, и Беладонна утешает себя тем, что невелика утрата.
Наконец я отпираю все замки и выскакиваю на площадку, почти счастливая. Я самостоятельно, а точнее, с помощью Беладонны промахнула дорогу из дистресса прямо в счастье, минуя промежуточные станции. Я вхожу в свою квартиру, где нет лишней мебели, ворованной икры, толиков, бриллиантовых колец. Я вхожу и думаю: «Как хорошо жить…»
Я проснулась оттого, что пёс Карай погромыхивал цепью. Он не лаял. Лаять ему, бедному, запретили, а двигаться не запретишь, и Карай прохаживался туда и обратно, сдвигая тяжёлую метровую цепь.
Вы, наверное, думаете, что я уже в дурдоме и у меня галлюцинации. Ничего подобного. Просто в воскресенье, во второй половине дня, ко мне из Самарканда позвонила Случайная Подруга, объявила, что ей довольно-таки паршиво и нужен мой совет.
Звонок выглядел как бы неожиданным, но мне показалось, как будто кто-то свыше позаботился обо мне.
Я вырвала себя из своей квартиры, как морковку из грядки, и через пять часов уже выходила из самолёта на самаркандский аэродром.
Аэродром выглядел типичным для южного города, только в Сочи — кепки, а тут — тюбетейки.
Лия (так зовут мою Случайную Подругу) встречала меня, и я издали смотрела, как она идёт, поводя головой, высматривая меня в толпе.
Небольшой экскурс в прошлое: мы познакомились с ней пять лет назад в скоропомощной больнице, где лежали по поводу острого аппендицита. Мы вместе лежали, вместе вставали, вместе учились ходить, вместе ели и говорили, говорили, говорили… Где-то уже через час после знакомства стало ясно, что наши души идентичны, как однояйцовые близнецы. Или, вернее, у нас одна душа, разделённая на две части. Одна часть — во мне, а другая — в восточной девушке, студентке театрального училища. Единственная разница состояла в том, что она бредила Дузе, а я не имела о ней никакого представления. Все остальное совпадало, и мы все семь дней поражались узнаванию.
Итак, я проснулась, надела ватный халат — чопан и вышла во двор.
Как прекрасно ступить из комнаты прямо на землю. Я могу ступить из своей московской комнаты прямо на балкон и с высоты девятого этажа обозреть окрестность. И мне почему-то кажется, что кто-то невидимый должен подойти ко мне со спины и перекинуть через балконные перила. Я переживаю ужас кратковременной борьбы, потом ужас полёта, не говоря уже об ужасе приземления. Знакомый врач-психиатр объяснил, что есть термин: тянет земля. Что это не патология. Патология для человека — жить на девятом этаже, быть поднятым над землёй почти на тридцать метров.
Дом и сад были отделены от улицы высокой стеной. На стене, прямо над собачьей будкой, сидела кошка и созерцала этот мир спокойно и отрешённо, как представитель дзэнбуддийской философии.
Кошка смотрела на небо, сине-голубое и просторное. Я тоже посмотрела на небо, и мне показалось, что здесь оно выше, чем в Москве, хотя, наверное, так не может быть. Небо везде располагается на одной высоте. Далее кошка приспустила глаза на верхушки деревьев. Ветки ещё голые, но чувствуется, что почти каждую секунду готовы взорваться и выхлопнуть хрупкие цветы: белые, розовые, нежно-сиреневые. Кошка нагляделась на деревья, потом стала разглядывать меня в узбекском чопане.
Карай стоял, задрав голову, неотрывно глядел на кошку. Его ноги наливались, напивались мышечной упругостью, и вдруг — рывок… Карай, как живой снаряд, метнул вверх всю свою веками накопленную ненависть, но цепь оказалась короче стены сантиметров на двадцать, и эти двадцать сантиметров решили дело и вернули Карая к будке, при этом чуть не оторвав ему голову. И тогда Карай все понял — и про кошек, и про людей — и зашёлся, захлебнулся яростным протестом. А кошка лениво встала и пошла по стене с брезгливым выражением. Она бы и дальше сидела, ей плевать, что там происходит внизу, но такое количество шума и недоброжелательства мешало ей созерцать мир. Какое уж тут созерцание…
Из дома вышла годовалая Диана, дочка Лии. У неё были чёрные керамические глаза и ресницы такие длинные и загнутые, как будто их сделали отдельно в гримерном цехе.
— Вав! — Она ткнула кукольным пальцем в сторону Карая.
Кошки не было и в помине, а Карай все захлёбывался бессильной яростью, которую ему необходимо было израсходовать.
Из дома выбежала Лия. На ней — платье Дузе, которое досталось ей, естественно, не от Дузе. Она сшила его себе сама, скопировав с картинки. Вид у неё был романтический и несовременный, с большой брошью-камеей под высоким воротником.
— Замолчи! — крикнула она Караю с радостной ненавистью, потом схватила Диану на руки и начала целовать так, будто её сейчас отберут и больше никогда не покажут.
— Она у меня чуть не умерла, — сообщает мне Лия, отвлекшись от приступа материнской любви. — У неё от пенициллина в кишках грибы выросли.
— Какой ужас…
Диана высокомерно смотрела на меня с высоты материнских рук.
— Слушай, а вот нас растили наши матери… Столько же времени тратили? Так же уродовались?
— Наверное. А как же ещё?
— В таком случае мы не имеем права на свою жизнь.