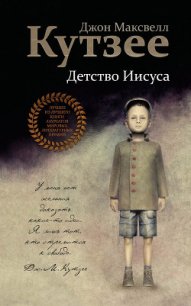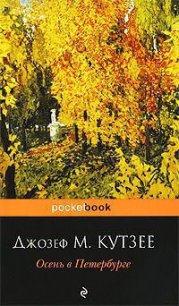Детство Иисуса - Кутзее Джон Максвелл (бесплатные полные книги txt) 📗
– Похоже, только мы и будем, – говорит наконец Ана. – Начнем?
В корзине оказываются всего лишь упаковка крекеров, горшок несоленой фасолевой пасты и бутылка воды. Но ребенок уплетает свою долю, не жалуясь.
Ана зевает, растягивается на траве, закрывает глаза.
– Что вы имели в виду, когда сказали «очиститься»? – спрашивает он. – Вы сказали, нам с Давидом надо очиститься от старых связей.
Ана лениво качает головой.
– В другой раз, – говорит она. – Не сейчас.
По ее тону, по взгляду из-под век, брошенному на него, он чувствует некий призыв. Полдесятка гостей, которые не явились, – может, выдумка? Если б не ребенок, он бы лег рядом с ней на траву и, может, тихонько положил свою руку поверх ее.
– Нет, – бормочет она, словно читая его мысли. Хмурая тень скользит у нее по лбу. – Не это.
Не это. Что ему думать про женщину – то теплую, то холодную? Может, он не улавливает чего-то об этикете между полами или поколениями, принятом в этих новых краях?
Мальчик дергает его и показывает на почти пустую пачку крекеров. Он намазывает пасту на крекер и дает мальчику.
– У него здоровый аппетит, – говорит девушка, не открывая глаз.
– Он все время голоден.
– Не волнуйтесь, приспособится. Дети быстро приспосабливаются.
– Приспособится голодать? Зачем ему приспосабливаться голодать, если нет недостатка в провизии?
– Приспособится к умеренной диете, в смысле. Голод – как собака в животе: чем больше кормишь, тем больше она хочет. – Она резко садится и обращается к ребенку: – Я слыхала, ты ищешь маму, – говорит она. – Скучаешь по маме?
Мальчик кивает.
– А как зовут твою маму?
Мальчик бросает на него вопросительный взгляд.
– Он не знает ее имени, – говорит он. – При нем было письмо, когда он садился на судно, однако оно потерялось.
– Шнурок лопнул, – говорит мальчик.
– Письмо было в кошеле, – объясняет он, – который висел у него на шее на шнурке. Шнурок лопнул, и письмо потерялось. По всему кораблю искали. Но так и не нашли.
– Оно упало в море, – говорит мальчик. – Его рыбы съели.
Ана хмурится.
– Если ты не помнишь мамино имя, можешь сказать, как она выглядела? Можешь ее нарисовать?
Мальчик качает головой.
– Значит, твоя мама потерялась, и ты не знаешь, где ее искать. – Ана умолкает, осмысливает. – Как бы ты отнесся, если бы твой padrino стал подыскивать тебе другую маму, чтобы она тебя любила и заботилась о тебе?
– Что такое padrino? – спрашивает мальчик.
– Вы всё пытаетесь присвоить мне роли, – встревает он. – Я не отец Давиду и не padrino. Я просто помогаю ему встретиться с матерью.
Она не обращает внимания на его отповедь.
– Если вы найдете себе жену, – говорит она, – эта женщина могла бы стать ему матерью.
Он хохочет.
– Какая женщина захочет выйти замуж за такого мужчину, как я, – чужака, у которого нет за душой даже смены одежды? – Он ожидает, что девушка заспорит, но нет. – Кроме того, даже если бы я нашел себе жену, откуда знать, что она захочет, знаете, приемного ребенка? И примет ли ее наш юный друг?
– Никогда не знаешь. Дети приспосабливаются.
– Да что вы заладили! – В нем вспыхивает гнев. Что эта самоуверенная девушка знает о детях? И по какому праву она ему проповедует? И тут части картинки сходятся. Неказистая одежда, обескураживающая суровость, разговоры о заступниках… – Вы не монахиня часом, Ана? – спрашивает он.
Она улыбается.
– С чего вы взяли?
– Вы из тех, кто покинул монастырь и живут в миру? Выполняют работу, за которую больше никто не хочет браться, – в тюрьмах, приютах, лечебницах? В центрах приема беженцев?
– Какая нелепость. Конечно, нет. Центр – не тюрьма. И не благотворительное заведение. Это часть социальной программы.
– Пусть так, но как можно терпеть нескончаемый поток людей вроде нас – беспомощных, невежественных, нуждающихся, без какой-нибудь веры, что придает сил?
– Веры? Вера здесь вообще ни при чем. Вера бывает в то, что делаешь, даже если это не приносит видимых плодов. Центр не таков. Прибывающим людям нужна помощь, и мы им помогаем. Мы помогаем, и жизнь их улучшается. Это все видно. Ничто здесь не требует слепой веры. Мы делаем свою работу, и все устраивается хорошо. Проще некуда.
– Нет ничего незримого?
– Нет ничего незримого. Две недели назад вы были в Бельстаре. На прошлой неделе вы нашли работу в порту. Сегодня у вас пикник в парке. Что тут незримого? Это улучшение, наблюдаемое улучшение. В общем, отвечая на ваш вопрос: нет, я не монахиня.
– Тогда откуда этот аскетизм, который вы проповедуете? Вы велите нам усмирить голод, уморить собаку внутри. С чего? Что плохого в голоде? Аппетит дан для того, чтобы сообщать нам о наших нуждах, разве нет? Не будь у нас аппетита, не будь желаний, как бы мы жили?
Ему этот вопрос кажется хорошим, серьезным – вышколенная молодая монахиня теперь попалась бы.
Ответ ей дается легко – так легко и таким тихим голосом, словно не предназначается ребенку, что он сначала не понимает:
– И куда же, в вашем случае, ведут вас желания?
– Мои желания? Можно, я буду откровенен?
– Можете.
– При всем уважении к вашему гостеприимству, они ведут меня к чему-то большему, чем крекеры и протертая фасоль. Они ведут, например, к бифштексу с картофельным пюре и подливой. И, я уверен, этот юноша, – дотянувшись, он хватает ребенка за руку, – чувствует то же самое. Правда?
Мальчик энергично кивает.
– Бифштекс, истекающий мясным соком, – продолжает он. – Знаете, что меня больше всего удивляет в этой стране? – В голосе его появляется безрассудство, мудрее было бы остановится, но нет. – Она такая бескровная. Все, с кем ни знакомлюсь, такие приличные, милые, благонамеренные. Никто не сквернословит, не гневается. Никто не напивается. Никто не повышает голос. Вы живете на диете из хлеба, воды и протертой фасоли и говорите, что сыты. Как такое может быть, говоря по-человечески? Вы врете – даже себе самой?
Обняв колени, девушка смотрит на него безмолвно, ждет окончания тирады.
– Мы голодны, этот ребенок и я. – Он с силой притягивает к себе мальчика. – Мы все время голодны. Вы говорите мне, что голод – диковина, которую мы привезли с собой, ей здесь не место, и нам предстоит морить себя до полного смирения. Когда изничтожим голод, говорите вы, мы докажем, что можем приспосабливаться, и после этого будет нам счастье на веки вечные. Но я не хочу морить собаку голода! Я хочу ее кормить! Согласен? – Он трясет мальчика. Мальчик зарывается ему под мышку, улыбается, кивает. – Ты согласен, мой мальчик?
Нисходит молчание.
– Вы и впрямь гневаетесь, – говорит Ана.
– Я не гневаюсь, я голодаю! Скажите мне: что плохого в утолении обычного аппетита? Почему простые порывы, голод и желания нужно усмирять?
– Вы уверены, что хотите продолжать в том же духе при ребенке?
– Мне не стыдно за свои слова. Нет в них такого, от чего нужно оградить ребенка. Если ребенку можно спать под открытым небом на голой земле, ему тем более можно слушать прямой взрослый разговор.
– Хорошо, я вам устрою прямой разговор в ответ. То, чего вы от меня хотите, я не делаю.
Он смотрит на нее растерянно.
– Чего я от вас хочу?
– Да. Вы хотите, чтобы я дала вам себя обнять. Мы оба знаем, что это значит, – обнять. А я такого не допускаю.
– Я о том, чтоб вас обнять, ничего не говорил. Но что плохого в объятиях, если вы не монахиня?
– Отказ от желаний не имеет ничего общего с тем, монахиня я или нет. Просто я так не делаю. Не допускаю. Мне не нравится. У меня нет на это аппетита. На это само по себе у меня нет аппетита, и я не желаю видеть, что он делает с людьми. Что он делает с мужчиной.
– В каком смысле – что он делает с мужчиной?
Она многозначительно смотрит на ребенка.
– Вы уверены, что хотите продолжения разговора?
– Продолжайте. Никогда не рано познавать жизнь.