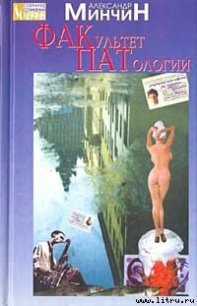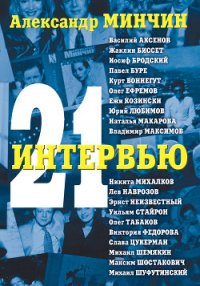Актриса - Минчин Александр (электронная книга .txt) 📗
— Только не надо так пристально.
— А вы разве такой стеснительный?
— Не в восторге, скажем, от своего тела.
— И напрасно. — Она с улыбкой продолжает рассматривать.
— Вы погасите ночник и рассматривайте.
Она тут же выключает свет.
— Вы всегда такая послушная? — Меня это трогает.
— Желание мужчины — это аксиома, — легко смеется она.
— Я могу лечь с вами рядом? Теперь я как, вовремя спрашиваю?!
Она смеется заливисто.
— Люблю, когда у мужчины — хорошее чувство юмора.
— А что еще вы любите у мужчины?
— Синие глаза.
— Я не думал, что похож на мужчину.
— Не похожи, вы еще совсем мальчик.
— Почему?
— Боитесь услышать слово «нет».
— Поэтому вы и не…
— Опыт патологоанатомического исследования?
Я посмотрел на нее.
— Будет проводиться? — негромко спросила она.
Я коснулся ее груди под халатом. Грудь была большая, но мягкая. В ней не было никакой упругости. Как в губах. Я совершенно протрезвел.
— Вам этого очень не хотелось?..
— Ложитесь, а то вы в мокром полотенце.
— Это намек?
— По-моему, это голое предложение. Я бы сказала — навязывание…
Я вынимаю ее из халата, как конфету из обертки.
— Повернитесь на живот.
Она послушно поворачивается.
Я становлюсь на колени и начинаю водить языком по ее лопаткам, между ними. По ложбине позвонка, вверх и вниз, вверх и вниз… Тая начинает слегка извиваться. Ее рука развязывает узел полотенца на поясе и касается меня. Ниже. Нежно перебирает, гладит. Как будто ртуть взбивается наверх. Я хочу ее опять. Рывком переворачиваю на спину и беру ее бедра в ладони. Она приподнимает их, чтобы мне было удобней. Я умышленно скольжу выше, потом ниже, пока не вхожу во влажное влагалище.
Как грустно, что в великом языке нет лучше слова!
Несколько толчков, и он дико наливается. Двигаясь вперед, назад, влево, вправо, по окружности, по диагонали. Ладонями я приподнимаю бедра. Хотя это — уже не бедра, но существительного тоже нет хорошего в огромном языке: половинки, ягодицы, попа…
Ее неожиданно сильные ноги сжимают мои бока. Я начинаю раскручиваться, раскачиваться… издавать звуки. Захватываю ее ухо губами и шепчу:
— Хочу… тебя… тебя… тебя. — В ритм.
Я вырываюсь, расшвыривая ее ноги, они соскальзывают мне в подколенки. Я вгоняю в нее толчками. Вонзаюсь буром. Взрыв.
Она сжимает мои дергающиеся плечи, шею. И шепчет:
— Да, мой мальчик… да…
Я судорожно сжимаю ее тело так, что что-то хрустит. Она сильнее льнет ко мне животом, подмышками, грудью. Я замираю, оцепенев, потом разжимаю объятия. Мне кажется, я ее сломал. Она нежно гладит ладонями мою кожу.
— Прошу прошения, я не хотел так…
— Вы очень нежный мальчик, — повторяет она и целует мои глаза. — И очень ласковый.
Ощущение женщины отлично от ощущения мужчины.
Она выскальзывает из-под меня, и я слышу ее уже в душе.
Я не хочу ей пачкать белоснежную простыню и переворачиваюсь на спину. Какой-то далекий шепот кому-то говорит:
— Мне завтра с утра нужно в театр. Не просыпайтесь рано, вам нужно отдохнуть.
Кто это говорит, как будто ангелы поют, или это снится мне, но почему такими голосами?
Я не сразу понимаю, где я и почему так много света. Касаюсь рукой и чувствую, что голый, но заботливо укрытый. Подаю голос наружу, но никто не отвечает. Я вхожу в ванну и открываю сильный горячий душ. Вытираюсь большим полотенцем и захожу в кухню. Там никого.
На столе стоит большое блюдо, полное свежекупленных овощей: огурцов, помидоров, укропа, петрушки, малосольных огурчиков, издающих обалденный запах. Рядом, на тарелке, какой-то белый, неведомый мне сыр, влажный и мягкий, нарезанный тонкими ломтиками. Весь воздух пропитан его сказочным ароматом. В плетеной корзинке свежий батон. Салфетка рядом с большой чашкой на блюдце. Я отламываю только ломтик сыра и пробую: изумительный вкус. Одеваюсь, выпивая чашку чая. Я не ем с утра.
Вырываю из блокнота бледно-желтый листок и оставляю ей записку:
«Тая!
Вы очень милы. Спасибо за все.
Алексей.
1040 утра.
21 июня 91».
На кладбище стоит абсолютная тишина, вечный запах. Сень, покой, листва. Все зеленое, не яркое. Я прижимаюсь к папиной фотографии и целую ее. Я прошу прошения, что опоздал — всего лишь на семь лет…
Километра два от кладбища я бреду пешком, ни одна машина не останавливается. Наконец удается уговорить водителя автобуса отвезти меня на встречу.
Дома мама устраивает мне сцену, что я не ночевал дома, она подняла на ноги весь город, думала, со мной что-то случилось. Я молча выслушиваю, чувствуя еще осадок водки в голове. Потом она говорит, что звонила Вера Баталова. Я жду.
— Кто это такая?
Она всегда все хочет знать.
— Актриса… — нехотя отвечаю я.
Я меняю костюм, галстук и рубашку. Набиваю голландский пакет необходимым на день. Для хождений по редакциям.
— Хочешь чай или что-нибудь поесть? — Она все еще дуется на меня.
— Нет, спасибо.
Я чищу зубы тщательно и беру с собой зубную щетку. Когда ж отпустит голова?
Я набираю номер. Как ни странно, он свободен.
— Вера, здравствуйте.
Мне кажется, что мы теперь с ней связаны как-то — по-другому.
— Алешенька, здравствуйте. Я боялась, что не найду вас уже. Мама так волновалась, она думала, что вы у меня…
Оказывается, папа ее близкого друга — известный режиссер. И завтра будет премьера его самого-самого фильма по запрещенному роману «Ревность». Меня будут ждать у входа Дома кино, если я приду. Она описывает внешность близкого друга.
— Вы будете один или вдвоем?
— Я не знаю еще, возможно с другом, у него завтра день рождения. Вам спасибо за заботу.
— Что вы, что вы, вас надо развлекать, в этом городе вечерами можно сойти с ума.
— Не могу с вами не согласиться!
Мы прощаемся.
— Мама, обязательно нужно растрезвонить всему городу?!
— Я волновалась, не знала, куда звонить. Ты — черствый сын.
Я беру в рот подушечку-резинку и стискиваю зубы. Я исчезаю, пока не началось.
— Надеюсь, сегодня ты вернешься домой ночевать! — слышу вдогонку — на всю губернию.
На улице я чуть не впадаю в истерику: полчаса не могу поймать машину, опаздывая на встречу. Это единственный город в мире, где не хотят заниматься извозом. Наконец, оценивая мой костюм, один соглашается — за две пачки американских сигарет. Что соответствует примерно пятикратной плате.
На встречу я успеваю, подгоняя «извозчика». Панически ненавижу опаздывать. Зам. редактора по прозе, которая уже полгода мусолила мой рассказ «Болезнь куклы», присланный еще из Нью-Йорка, знакомит меня с главным редактором. Он небольшого роста, по-европейски одет и на редкость стройного телосложения для здешних мест. Она почтительно закрывает дверь, и мы остаемся одни.
— Михаил Малинов. — Он резво жмет мне руку.
— Алексей Сирин, — отвечаю я на рукопожатие.
— Я много слышал о вас от Тамары Романовны. Честно скажу, рассказ ваш мне понравился. Прочный, твердый, реалистичный. Я бы его с удовольствием опубликовал! Но тогда все эти Аданьевы, Баклажановы и Вознесельские загрызут меня, что я их прозу не публикую в журнале.
— Что же публикуете тогда?
— Только детективы и приключения. Это мой дамасский щит. Я им всем так и говорю. Понимаете, Алексей, у меня журнал выходит тиражом в два с половиной миллиона. На Западе, наверно, о таких тиражах и не слышали. Журнал выходит двенадцать раз в год, и я знаю, что хочет читатель. Хочет он одного — детективов.
— Какая тоска, — невольно вырвалось у меня.
— Согласен. Я их сам читаю с зевотой. Только потому, что нужно отбирать в номер. Я бы с большим удовольствием публиковал прозу Набокова или Сирина. Но не могу себе этого позволить. У меня ведущий по тиражу и популярности в Империи журнал, и я не могу потерять читателей, начав публиковать хорошую прозу.