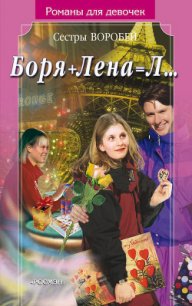Моя гениальная подруга - Ферранте Элена (лучшие книги онлайн TXT) 📗
Галиани меня похвалила. «Но после серьезной атаки, — сказала она так, словно объясняла нам с Нино трудную тему, — нужно затаиться». Она постучала в дверь аудитории, скрылась за ней и через пять минут вышла довольная. Мне разрешили вернуться в класс при условии, что я извинюсь перед преподавателем за резкость тона. Я извинилась. Меня переполняли страх перед возможными последствиями и гордость оттого, что меня поддержали Нино и Галиани.
Обсуждать случившееся с родителями я побоялась, зато рассказала все Антонио, который передал мой рассказ Паскуале, а тот, в свою очередь, Лиле. Он все еще любил ее и, случайно столкнувшись с ней на улице однажды утром, ухватился за мою историю как за повод хоть чем-то ее заинтересовать. Так я в мгновение ока стала героиней и в глазах старых друзей, и небольшой, но спаянной группы преподавателей и студентов, не желавших выслушивать нравоучения преподавателя богословия. В то же время, понимая, что извинений перед священником недостаточно, я постаралась вернуть себе кредит доверия с его стороны и со стороны учителей, разделявших его взгляды. Это удалось мне без особых усилий: с враждебно настроенными преподавателями я держалась особенно учтиво и демонстрировала похвальное прилежание, чем заслужила репутацию ученицы, которой можно простить некоторые странные высказывания. Попутно я обнаружила, что умею делать то же, что Галиани: жестко высказав свое мнение, затаиться и заработать всеобщее уважение безукоризненным поведением. За несколько дней я, как мне показалось, вернулась в верхнюю часть списка подающих надежды учеников нашего богом забытого заведения.
Этим дело не кончилось. Пару недель спустя меня нашел Нино и без всяких предисловий, своим привычно мрачным тоном попросил коротко, на полстранички, изложить историю моего столкновения со священником.
— Зачем?
Он сказал, что сотрудничает с журналом «Неаполь: приют для бедных» и рассказал в редакции о моем случае. Они решили, что, если я напишу заметку, ее постараются включить в следующий номер. Нино показал мне журнал — брошюрку на грязно-серой бумаге страниц на пятьдесят. В содержании значилась и его фамилия — рядом со статьей, озаглавленной «Нищета в цифрах». Мне вспомнилось, с каким самодовольством его отец на Маронти читал вслух статью, напечатанную в «Риме».
— Ты и стихи пишешь? — спросила я.
Он буркнул «Нет!» с таким отвращением, что я пообещала ему:
— Хорошо, попробую.
Домой я возвращалась в сильном волнении. В голове крутились фразы из будущей заметки. По пути я поделилась своими идеями с Альфонсо. Он испугался и начал умолять меня отказаться от этой затеи.
— Под заметкой будет стоять твое имя?
— Конечно.
— Лену́, священник рассвирепеет. Он переманит на свою сторону химичку и математика, и тебя отчислят.
Его беспокойство передалось и мне, наполнив душу сомнениями. Но, едва мы расстались, мысль о том, что я покажу журнал с заметкой, подписанной моим именем, Лиле, родителям, учительнице Оливьеро и учителю Ферраро, взяла верх. Я надеялась, что потом сумею все исправить. Меня вдохновляло уважение людей, которых я причисляла к лучшим (Галиани, Нино), мне хотелось объединиться с ними против худших (священника, преподавательницы химии, преподавателя математики), но в то же время не потерять симпатии врагов. Чтобы добиться этого, мне предстояло серьезно потрудиться.
Весь вечер я писала и переписывала текст заметки. Я искала краткие и емкие фразы и старалась подвести под свою позицию теоретическую базу. Я писала: «Если Бог вездесущ, зачем ему распространяться посредством Святого Духа?» Но полстраницы заканчивались на одном предисловии. А как же остальное? Я начинала заново. После бесконечных правок мне наконец удалось достичь определенного успеха, и я села делать уроки на завтра.
Но каких-нибудь полчаса спустя меня охватили сомнения. Мне нужен был совет. К кому за ним обратиться? К матери? К братьям? К Антонио? Конечно нет. Только к Лиле. Но это означало снова признать ее авторитет, хотя в то время я действительно была гораздо образованнее ее. Я боялась, что она одним едким замечанием уничтожит мои полстраницы. Но еще больше я боялась, что это замечание засядет у меня в голове, внесет сумятицу в мои мысли, и я испорчу свои полстраницы. Наконец я сдалась и побежала ее искать. Она была дома у родителей. Я рассказала ей о предложении Нино и отдала тетрадь.
Она взяла ее нехотя и как будто через силу.
— Ее подпишут твоим именем? — повторила она вопрос Альфонсо.
Я кивнула.
— Так и напишут: «Элена Греко»?
— Да.
Она вернула мне тетрадь:
— Я не смогу сказать, хорошо это или нет.
— Ну пожалуйста…
— Нет, не смогу.
Но я стояла на своем. Даже сказала, покривив душой, что не отдам статью Нино, если она ей не понравится. Или если она откажется ее читать.
В конце концов она сдалась. Мне показалось, что она вся сжалась, будто ее придавило чем-то тяжелым. Впечатление было такое, словно она с болью выдирала из собственного нутра прежнюю Лилу, ту, что читала, писала, рисовала и строила грандиозные планы — легко и естественно, едва ли не интуитивно.
— Можно я кое-что зачеркну?
— Давай.
Она вычеркнула некоторые слова и одну фразу целиком.
— Можно кое-что переставлю?
— Можно.
Она обвела одно предложение и волнистой линией перенесла его в начало заметки.
— Хочешь, перепишу на другой листок?
— Да я сама перепишу.
— Нет, дай я перепишу.
Она переписала. Возвращая мне тетрадь, она сказала:
— Ты молодец! Неудивительно, что тебе ставят одни десятки.
В ее словах не было иронии, она говорила вполне искренне. Но потом неожиданно резко добавила:
— Больше никогда не показывай мне, что пишешь. Я ничего не буду читать.
— Почему?
Она задумалась.
— Потому что это больно. — Она ткнула себя пальцем в центр лба и рассмеялась.
54
Я вернулась домой счастливая. Заперлась в туалете, чтобы не мешать домашним, прозанималась до трех часов ночи и только потом отправилась спать. Встала в половине седьмого, чтобы успеть переписать текст. Я перечитала страницу, исписанную круглым Лилиным почерком, не изменившимся со времен начальной школы, — в отличие от моего, который стал мельче и прямее. Текст остался моим, только обрел ясность и живость тона. Вычеркивания, перестановки и небольшие добавления, а также ее почерк подарили мне странное ощущение: как будто я сама себя обогнала и бежала шагов на сто впереди себя — бежала легко, полная осознанием своей гармонии с миром, о чем еще вчера и не мечтала.
Я решила не переписывать текст и отнесла его Нино как был, чтобы в моих словах сохранился след присутствия Лилы. Он прочитал его, часто хлопая длинными ресницами, и неожиданно грустно сказал:
— Галиани права.
— В чем?
— Ты пишешь лучше меня.
Я смутилась и стала отнекиваться, но он повторил ту же фразу еще раз, повернулся ко мне спиной и ушел, не прощаясь, даже не сказав, когда выйдет журнал и где я смогу его получить. Его реакция меня разозлила. Я смотрела, как он уходит по коридору, и с ужасом узнавала в его походке походку его отца.
Так закончилась наша новая встреча. Мы опять все испортили. Нино несколько дней игнорировал меня, будто хотел дать мне понять, что писать лучше его с моей стороны непростительно. Меня это бесило. Потом он вдруг смирился с моим существованием и предложил мне ходить из школы вместе, но я холодно ответила, что меня встречает жених.
Сначала он решил, что мой жених — Альфонсо, но как-то раз в школу после уроков прибежала Мариза, которой понадобилось срочно что-то ему передать. Мы с ней не виделись со времен Искьи. Она радостно бросилась мне навстречу и сказала, что очень расстроилась, не увидев меня летом в Барано. Мы как раз стояли с Альфонсо, и я их познакомила. Мариза предложила нам немного прогуляться вместе — все равно брата она уже не застала. По пути она рассказывала нам о своих любовных переживаниях, но потом, убедившись, что у нас с Альфонсо чисто дружеские отношения, полностью переключилась на него. Дома она, разумеется, сообщила брату, что между мной и Альфонсо ничего нет, и уже на следующий день он принялся ходить за мной по пятам. Но меня передергивало от одного его вида. Неужели он такой же, как его отец, хоть и терпеть его не может? Неужели так же истово верит, что перед ним никто не устоит? И настолько самовлюблен, что ни за кем, кроме себя, не признает никаких достоинств?