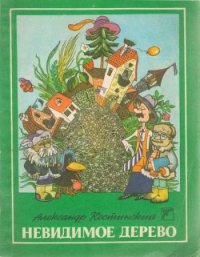Вышел месяц из тумана - Вишневецкая Марина Артуровна (бесплатные книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Анин хохот. До кашля. И кто же ее веселит там?
— Я найду! Не в журнале, так в книге! Это может быть в только что вышедшей книге! Я себя не щадила, так откровенно в нашей литературе не исповедовалась, возможно, еще ни одна женщина! И чтобы все свести к абсурду?! Не поверю! Надо лишь терпеливо искать! — подбородок вперед, развернулась и поплелась, волоча стремянку.
Здесь ведь нет абсурда, Тамара, здесь есть рифма: мальчик Исаак несет на спине вязанку дров для собственного «всесожжения», как и Христос, которому предстоит нести на себе крест… Вот еще одна рифма: «Мой отец, — говорит Исаак, — вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» И Отцу же — Христос: «Да минует меня чаша сия». В чем же смысл данного «четверостишия», дети? (Она, конечно, школьная училка, если не инспектор роно!) Бог не допустил невинной жертвы. Совсем иное дело — жертва осознанная…
В продуваемом с четырех сторон тамбуре — два окурка. Тамарин размазан по полу в крошево. Дымом, однако, не пахнет. Я вообще не уверен, что здесь существуют запахи.
Рифма сама собою гарантирует от абсурда.
Анечка, женская рифма моя! Ты-то что обо всем этом думаешь?
Тишина. Я прошел уже треть отсека — не скрипуче, на цыпочках. Я не мог их спугнуть.
Металлический ломкий звук и шипение — из-за книг. Надо только свернуть.
На полу — человек. Хлещет пиво из зеленой немецкой банки.
То ли в шортах, то ли в семейных трусах. И как черт волосат! Ани нет.
— Вы, по-моему, были здесь не один, — я присаживаюсь.
— Барышня за пивом послана.
— Далеко?
— О! Места здесь пивные! О! — в голосе детское изумление. — Таких мест, может, на всей земле-матушке ну раз, ну два… а больше и нету!
— Что же, барышня у вас на посылках?
— Будь проще, и барышни к тебе потянутся! — он протягивает мне мягкую пятерню. — Семен — кислый лимон. В теремочке живет. А ты кто такой?
— Я — Гена, переходящий на ты постепенно.
— Живи! Места всем хватит, — и с неохотой отпускает мою ладонь. — Вот придет Нюха, плоское брюхо, пиво пить будем.
— У барышни плоское брюхо?
— Вот придет Нюха, длинное ухо — хорошо будет! Вот придет Анка, открытая ранка…
— Чья ранка-то?
— Всякая барышня есть открытая ранка на теле земли. Для чего в ней наглядное напоминание и проделано!
— Думаешь, она пиво ищет?
— Думаю, что не пиво. Но отыщет она всенепременно пиво.
— Так бывало уже?
— Сколько раз!
— Вы давно здесь?
— Банок десять примерно, — он по-собачьи облизывается и, заслышав чьи-то тяжелые шаги, подносит палец к губам: — Томусик, норильский гнусик. Тс-с.
Шаги замирают. Поблизости. Слышится листание страниц. Вздох, удивленный выдох… Книга захлопывается. И вот она снова вышагивает — прочь.
— Туда-сюда, туда-сюда, как газы в кишках! — Семен морщится, поглаживая живот. — Я ей говорю: не боись, куда он денется? пропукается нами — не с утра, так в обед, не в обед, так под осень… Ой, что началось! «Пропукается — мной?» Ну, говорю, просрется. Главное, чтоб облегчение вышло — и нам, и ему. Сама видишь, какую муку человек на себя взял!.. Шиндец, тупик! Нам — что? Нам — каждому по потребностям: мне — пива поставил, тебе, Томусик, книжек хоть загребись. А ему, бедному, выход отсюда искать! Правильно я говорю? Семен Розенцвейг, — он опять протягивает пятерню. — Секретарь местной ячейки Партии процесса. А ты, Томусик, это я ей говорю, ты генсек Партии результата. Нам с тобой не по пути. Отзынь. Теперь вот мимо бегает.
— Геннадий, пока присоединившийся, — я длю рукопожатие.
— Присоединяйся, Гена! Хорошо будет!
— В результате?
— В процессе! Голова садовая!
— А в результате?
— Как у всех, так и у нас. Врать не буду.
— То есть?
— Летальный исход. Это я заранее говорю. Но процесс, Генка, сам процесс — о!
— Отошедшая барышня тоже в ваших рядах?
— У барышни — временное членство. Барышня, увы, то с нами, то против нас. Барышни — они как класс, по определению, тяготеют к результату. Девять месяцев тяготеют и — результат! Мозги-то куриные. Где им понять, что не результат это вовсе, а новый процесс вон из них рвется! Вот ты мне ответь: тебе здесь хорошо?
— Мне здесь… странно.
— А там, на большой земле, не странно — до обалдения? Нет?
— И там странно.
— Вот! Процесс — он ошеломляет.
— Равно как и летальный результат.
— Не скажи! Не равно! — он сердито мотает лохматой головой. — Процесс ошеломляет разнообразием! Взять для примера пиво: темное чешское — один коленкор, или баварское, что не одно с жигулевским, равно как бочковое, но обязательно с солью! А результат твой…
— В том-то и фокус: заранее ожидаемый результат — ошеломляет. И всякий раз по-иному и заново! И уж такое разнообразие ощущений в себе таит!
— А ты, Гена, башковитый. Ты — о! — он вдруг обнимает меня и прижимает к щеке горячие влажные губы. — Ты будешь наш министр пропаганды. Потому что наша конечная цель — объединение всех милых людей доброй воли в единую партию процесса и результата. Это так Всевочка любит говорить.
— А он вам кто?
— Севка-бурка, вещий каурка? Встань передо мной, как лист перед травой! Эгей! — озирается. — Не желает!
— Может, сами за пивом сходим?
— Да ну. Там этот Томусик повсюду. Рогоносец в потемках.
— Да-а?
— Ой! Если в нее все ее рога-то повтыкать, она бы была как ежик в тумане, — он упирает подбородок мне в плечо: — Но Нюха — это Нюха. Была бы у него Нюха, он бы прочих ундин… Нюху видеть надо! Слова немощны перед ней. Он этому Томусику в десятом классе ребенка заделал… Бегает теперь укушенная: «Этот роман обо мне! О моей неоднозначной жизни!» Кому она на фиг здесь нужна? Три строчки мелким шрифтом в Севочкиной биографии. И — фига ей с маковкой!
— А Севочкина биография, по-твоему…
Он снова хватает и жмет мою руку:
— Личный биограф, а также фотограф, а также библиограф — можно попросту граф — Семен Розенцвейг. Я его все публикации вырезаю и в папочку складываю. Картиночки — запечатлеваю. Барышень… Уж этого добра, вот уже чего-чего, а этого!.. Я их Томусику назло всех до единой преднамеренно вспомнил! И описал!
— В тексте? — я что-то не то говорю. — В этом…
— Ну! А некоторых ундиночек я даже очень мог вспомнить. Интересно, а я-то что делаю здесь?
Эти мокрые губы опять в моем ухе.
— Я их, иных, после Всевочки ведь донашивал. Ну — по-братски. Как бывало? Он их водит ко мне, водит, водит, они дорожку и натаптывают. По прошествии он и говорит, мол, привет и горячий поцелуй девушке передай… Ну, я и передаю. А они — в рев. Поначалу по головке их погладишь, то да се. И вот лежит она в койке, уже тобой, мной то есть — вся взбитая, вздобренная, как булочка, а все о нем пыхтит и паром исходит! Ой, было время, я из себя выходил! Нинку ту же взять. Редкая оторва. Харя — страшная, прыщавая, волосья перекисью пожженные! Но ноги — от зубов росли. А танцевала! И вот прикипела она к Всевочке: «После него, говорит, никому не дам!» Дней десять у меня жила, все его караулила. «Ты, говорит, жидяра такая, что ему про меня сказал?» Ну, я и скажи, я же ей, оторве, польстить хотел: «Чтоб он со мной поделился разок!» — «А-а-а, — кричит, — все вы кобеля! Он один — наследственный принц, и я с ним рядом — принцесса!» Я ей говорю: «Ваше высочество, всех клиентов растеряете ить!» Устроилась, понимаешь! Мое винище хлещет, хамит, орет и не дает!
Я поднимаюсь, наверно, резко — у меня затекла нога. И приваливаюсь плечом к стеллажу с разноцветными томами Советской энциклопедии — все три издания вперемежку. Синие — самые степенные — из моего детства.
— Как все это интересно, — вежливо улыбаюсь. — Всем изменяет. Все ему верят! И все хотят его одного!
— А ты как думал! Он знаешь какой с ними? Слова беспомощны! Я-то за стенкой. Когда сплю, когда и не сплю. С другим человеком такое, может, раз в жизни бывает: «Ты! Ты! Это же ты! Какая!..» Ну, два раза в жизни: в последний и в первый. А он на каждую не надышится. Ты не думай — без вранья. Чтобы Севка соврал? Никогда! Он полночи над ними с ума сходит — и они уже от него безумные делаются.


![Дерево бодхі. Повернення придурків [Романи] - Яценко Петро (бесплатные онлайн книги читаем полные версии .txt) 📗](/uploads/posts/books/51649/51649.jpg)