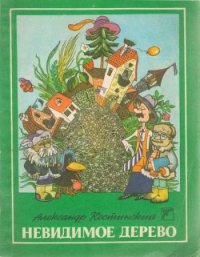Вышел месяц из тумана - Вишневецкая Марина Артуровна (бесплатные книги онлайн без регистрации TXT) 📗
— А мне, наоборот, все мерещится, что я тут, а он там мне звонит: «Ту-у! Ту-у! Ту-у!» А меня нет, нет, нет…
— А все-таки он сволочь — редкая!
— Когда у Манюни моей змеюка жила, ее один Всевочка в лобик целовал.
— Потому что ему все равно! А где нет разбора, там нет и любви! Ну, не может быть нежности без разбора! Боже мой, сколько раз я просила его не измываться надо мной в массовке, в тусовке, да хоть при ком-нибудь одном! И что? Он без этого тихого садизма не он! Только сядем в автобус, тут же самым похабным образом начинает ко мне приклеиваться! «Девушка, как вас зовут! Только недотрогу-то корчить не надо, а, девушка?» Ну, я прячу глаза, весь автобус мне бурно сочувствует. В конце концов я забиваюсь куда-то на заднюю площадку, тут нам и выходить! Севка орет из дверей: «Девушка, есть хата!» И я, как идиотка, всех сочувствующих еще локтями расталкиваю: «Пропустите же!» Ну? Весь автобус на окнах висит, я стою вся в дерьме… А мой милый им из пальцев полный о'кей рисует.
— Узнаю. Был бы он здесь, а? Вот с кем вечность-то коротать!
— Вот с ним и коротаем! Пива тебе, как таракану, в каждом вагоне наливает.
— Он бы? Останкинское? Да никогда! Ты что?
— Веско. Это — веско. Только, Семочка, кто же еще мог так книжки расставить? А?
— Как?
— В одном вагоне — ну просто фреска! Игра мазков — ну что тебе Ван Гог! Прижизненное издание Пушкина рядом с терракотовым испанским справочником по гинекологии, за которым следует золотистый переплет франко-корейского словаря. Рядом же — что-то очень фисташковое и уже совершенно непереводимое! Севочка, а-у! Я оценила!
Семен то ли мрачно сопит… Нет. Не мрачно:
— Он, Нюха, такой! — даже как-то мечтательно.
— А в соседнем вагоне знаешь как книги идут? — Ее нарочитый смешок (Я один в нем умею расслышать обиду, боль, удивление, настороженность… Жанр литературной шарады, в который мы влипли, как мухи в дерьмо, предполагает наши совместные усилия, Аня!). Но она продолжает, бесстрашная: — Третий том, я не знаю чего, на иврите, первый — справочника лекарственных средств, четвертый том «Библиотеки приключений»…
— Люблю!
— Первый — Дюма, пятый том Малой медицинской энциклопедии, девятый — английский Шекспир, потом — вторая часть учебника по кристаллографии…
— Но сочетание цветов! — позевывает Семен.
— Ничего подобного! Число пи — во всю свою бесконечность, через весь вагон. Я имела возможность проверить свою догадку: очередной второй том был представлен сочинениями некоего господина Линдемана, математика…
— Надо же, как он все тут нам обустроил! Как продумал!
— Здесь пописать негде! — (бедная моя девочка!)
— А тебе хочется?
— Нет пока.
— Вот! А жалуешься! А потребности не имеешь! Он же — каждому по потребности!
— Сволочь он! Высокомерная скотина, веселящаяся при виде наших мучений!
— Вот дура-баба! Тебе в жизни было с кем лучше? Было?
— Ну не было. А только мне, Семочка, и хуже ни от кого не было.
— С ним небо ближе.
— И преисподняя тоже! Это не человек. Это какой-то сквозняк! А откуда и что сквозь него задувает…
Где-то хлопает дверь. Я выглядываю из-за стеллажа: в проходе, далеко пока, смутно — чуть расхлябанная мужская фигура. Если спрячусь… но он меня тоже, возможно, увидел — неудобно. Конечно, увидел и даже замедлил шаги.
Он узнал меня на мгновение раньше! Это совсем не то что видеть свое отражение в зеркале и заранее знать, предугадывать… Нас разделяют уже метров пять. Сестры — тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы. И какая тяжесть! И какая нежность! Это невыносимо — ощущать другого вот так. Уголки его губ ползут вниз. В глазах же — такая нездешняя (или именно здешняя?) печаль при виде моей печали. И сочувствие, и благодарность в ответ на печаль и, наверно, жалость?
Аня выше его на полголовы. Я впервые вижу это так отчетливо. И у него сейчас екнуло сердце — у него не от этого, у него — от тяжести и нежности. Вот что такое — любовь к себе, вот почему ближнего надо возлюбить именно так. Эти круги под глазами и седина — ее больше, чем мне казалось! Что же он смотрит так — так нельзя! Ни один закуточек души ведь не защищен! Он тоже щурится… Наверно, и он опустил сейчас взгляд.
Эта жалость, могущая вырваться вдруг из горла, — отчего она? Я не так уж и жалок! Я всего только смертен. Я вижу это — я впервые вижу это! Его конечности подрагивают, точно в тике, о котором я столько мечтал… Тело — это конечность. Я отваживаюсь снова поднять глаза. Мы бессмертны, пока мы не видим себя… так. Он протягивает мне брошюру. Я ему — по зеркальной привычке — Мандельштама (я год издания ведь хотел посмотреть!., он посмотрит?). И уже не понять, откуда взялась здесь Тамара. Шумно дышит, стремянка прижата к груди:
— У меня в пятом «В» точно такая же парочка однояйцевых! Мама родная не различает. Поэтому одного я спрашиваю у доски и там оставляю, после чего сразу за партой спрашиваю второго! — Она бодрится, не зная, которому же из нас смотреть в глаза, и вещает все как-то между. — Не понимаю, какой олигофрен формировал здешние фонды! Кто-нибудь видел здесь толстые журналы? Я так и думала!
Сунув брошюру под мышку, я вижу, как, сунув под мышку Мандельштама, я беру у нее лесенку — он-я:
— Давайте я вам помогу.
Голос, который я всегда считал мягким, звучит невыразительно и вяло. И все-таки я умудряюсь различить в нем нежность — ко мне, пусть скомканную, не для посторонних…
Когда Игорек уходил от меня в Шереметьево-2, неужели я любил его меньше?
Меньше…
Я любил его иначе.
Тамара ускорила шаг. Мы расходимся, к общему удовольствию: я и он вслед за ней. Я — стремительно, словно по делу.
В этой школьной шараде мне подсунули Мандельштама… который наставлял А.А. — правда, посмертно (год на земле стоял двадцать второй, то есть шестой стоял год после второго пришествия!): задача в том, чтобы гуманизировать двадцатое столетие, чтобы согреть его телеологическим теплом, теперь не время бояться рационализма. А я вот публично вступился за право поэта быть медиумом, артикулятором ему самому невнятного гула Вселенной, но слышного — только ему! И получил «достойную отповедь» — один в самом деле пристойный мандельштамовед публично мне указал на несвоевременность — мы ведь опять оказались на сломе эпох! — камланий и их адвокатов! На что я не мог не ответить: А.А. никогда бы не написал: я должен жить дыша и большевея! Он для того и умер, чтобы этого не написать, это был для него единственный, полный достоинства, смысла и ужаса выход! Нашу дискуссию подытожили скучной статейкой какого-то доктора — о неврозе, цинготных отеках, бессоннице… Из нее выходило, что умер Блок от диагноза — к вящей радости моего оппонента.
Но не мандельштамовед же так диковинно шарадит!
Да, ошаражен! Слов нет!
Только не путать время с пространством. И все-таки я решаю бежать. Насколько хватит дыхания.
Вот и тамбур. По-моему, в нем я не был еще. Спичка брошена. А окурки?.. Дальше! Дальше… книгоотсек, все такой же! Интересно, здесь есть вагон-ресторан? Вот уже и одышка… Не смотреть никуда и не вслушиваться, даже если и Анин голос! С ней все ясно — навязчивость, бред… связь-повязанность с первым мужчиной, что свидетельствует только о ее чистоте и, прости, дорогая, — о малолетстве. Когда я вместе с Блоком влюблялся в Л.Д., я не знал еще Ани. И знал, уже знал ее — Любой.
В этом тамбуре даже тепло… Или я разогрелся? Чуть меня не убила… отбросила дверью — конечно, Тамара. Мой поклон ей. И — дальше! Не знаю куда.
Плач. Анюшин? Навзрыд. Где-то рядом. За первым же слоем книг. Я сворачиваю — здесь тупик. Анин плач еще ближе!
— Аня!
Всхлипнула. Стихла.
Чтоб увидеть ее, надо вытащить несколько книг! Как же просто. Да, под мышкой брошюра! Я забыл о ней…
«ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВСЕВОЛОДА УФИМЦЕВА
(1956—1989)»
А сейчас какой год?


![Дерево бодхі. Повернення придурків [Романи] - Яценко Петро (бесплатные онлайн книги читаем полные версии .txt) 📗](/uploads/posts/books/51649/51649.jpg)