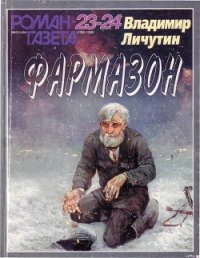Беглец из рая - Личутин Владимир Владимирович (полная версия книги txt) 📗
Я же перебранки наслушался за много лет, и она отлетает от меня, как пыль с ушей; и хотя Анна постоянно втравливает меня в третейские судьи, но я не втягиваюсь в ругань, предпочитаю стоять в стороне. Милые ругаются – только тешатся, хотя илистый осадок на дне души каждый раз остается, уж слишком жестко разговаривает Гаврош с матерью, не чинясь с ее годами. И сейчас в пререковы я вступать не намерен, хотел затаиться в засторонке за амбарушкой, чтобы Гаврош не затянул меня в политику. Но колченогий, еще расплавленный недавним сном, не собранный в груд, я отступил как-то неловко и вдруг зацепил домашним шлепанцем (будь он неладен) за бетонное тело креста, качнулся из укрытия и невольно выдал свое присутствие.
– Пашка, ты чего там окопался? А ну, подь до меня, как штык до трехлинейки. Козюля-мазюля, спроси у матери бутылек и подваливай. Большой разговор есть.
Анна смерила меня жалостливым взглядом, как порченого.
– Отшатись ты от него, Пашуня. Не слушай его. Не вяжись, сердешный, правду тебе говорю. Он ведь без ума. У него ум весь на дне бутылки. Весь ум пропил, лядащий человек...
– Ничего, баба Анна. Умный проспится, дурак никогда...
– Вот видишь. Он знает, он все знает! – гордовато возвысил голос Гаврош, качнулся, но с крыльца не упал, а спустился достойно, долго нащупывая ступени клешнятыми босыми лапами, разбитыми на лесовой работе, изнахратенными резиновой обувкою и долгой ходьбою на охотах. Чего говорить, работа у егеря – не сахар и не мед, а платят за труды как инвалиду. Лось сошел ко мне, настоящий лось: и сторожкими повадками, и сухим узловатым, без мясинки, телом с длинными жиловатыми руками, обвитыми темными жгутами налившихся вен. Головка у Гавроша маловата для долгого тела, но слеплена красиво: горбоносая, с синими пронзительными глазами, сейчас от хмеля наглыми и клейкими, в которые нестерпимо было заглядывать. Тонкие губы сквасились в усмешке, словно бы егерь задумал совершить какую-то гадкую козюлю, в уголке обметанного черною щетиною рта прилипла постоянная махорная сосуля, изрядно отмокшая, словно бы присандалил однажды на суперклей, да с этим окурком и живет...
И почему Гаврошем обозвали русского человека, никто в Жабках не знает; приклеили ярлычок, пришили этикетку, да с нею и ходит мужик, хотя того разбитного кудрявого парнишку, что шлялся по парижским баррикадам, рискуя жизнью, и каким мне представлялся французский герой, наш лесовик мало чем напоминает.
– Вот, мать, смотри, это – не простой человек. Это я – пьянь, а Павел Петрович – ученый человек. У него ума палата.
У бабы Анны суровое, изрезанное морщинами, тяжелое лицо, напоминающее лицо известной московской актрисы, что играет деревенских вдов. Анна свысока оглядела меня и, не найдя ничего достойного, подвела итог:
– Два кнура обкладенных. Бобыли, тьфу... Все добро-то сквасили. На что годны-то, шатуны?
– Ну будет, бабка, тебе скрипеть. Как телега несмазанная...
– Ты меня сначала сделай бабкой-то. Сидишь у печи, как волк под луной. Все свисло и краном уже не поднять.
– Все на мази. Да мне только пальцем...
– Только пальцем и осталось, – язвительно сказала старуха и ушла в избу.
Гаврош как-то растерянно посмотрел на меня, будто только что увидел, и сказал смущенно:
– Да ну ее, дуру. Чего с нее взять, верно, Паша? Бабы никак не поймут, что без нас, пьяниц, у них и пенсии бы не было. Мужики пьют, вот и деньги у государства. Сидели бы без нас – зубы на полку. А мы здоровьем рискуем, жить старикам даем.
Гаврош нервно отцепил окурок с губы, запалил свежачка, выдул клуб дыма на меня. И так ловко, нахал, прямо в лицо, хотя на голову выше. Я закашлялся, Гаврош засмеялся:
– Дым полезен, шашель не заведется...
Мужик поплелся на лавочку, высоко приподняв плечи; косицы темно-русых тяжелых волос, стекающих по шее на загривок, походили на конью гриву. Мослы корявых тонких рук, прямые безмясые плечи и желваки, хребтины, выступающие даже сквозь майку, говорили не столько об изношенности человека, сколько о полном безразличии к себе. Нет, это далеко не старуха Анна, что и войну перемогла, и горячего в гневе мужа, и деревенское вдовье житье, так и не впав в уныние, и вот, понукаемая бесконечной нуждою, что царюет нынче в русской деревне, когда новые горя волчьей стаей кинулись терзать крестьянина, она не поддалась печали, но держит и дом, и двор, полный скотины, и несчастного сына терпит и будет упрямо тащить на плечах до самой могилы.
Уж когда старуха затворилась в избе, а раскатистый гул ее голоса, отразившись от заречных боров, только что вернулся водою обратно в Жабки и, не снижая мощи своей, никак не желает умирать. А может, в моей головенке такой переполох, мозга с мозгою пошли на сшибку?
Гаврош, заикаясь, бунчал себе под нос; у трезвого слова не вытянуть, но пьяному рот не зашить, всю бы ночь говорил, никому не давая спать:
– Нет-нет, вам Бога не обмануть. Он хоть и высоко, да у него глаз – алмаз. У него глаз охотника. И у меня... Я белке – в глаз, если захочу. А вам Бога не обмануть. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет? Это как сказать. Это как посмотреть еще. Дураки! На фиг мне? Я знаю, кому сколько жить. Сколько я назначу, столько и будет жить. – Гаврош тяжело плюхнулся на лавочку под ветлою, обвел деревню рукою, словно пересчитывая избы, уставился в прогал улицы, в поросшую рябинкой и конским щавелем сиротскую пустошь перед церковью. – Меня охотовед было точить стал. Что ни сделай собаке, ну все не так. Издевается, значит. Ну я терпел, да. Потом говорю: ты меня не точи, а то помрешь. А он засмеялся, нехорошо обозвал меня. Ругатлив был шибко. И третьево дни помер. Меня, Паша, ругать нельзя, я опасный человек. – Гаврош угрюмо хохотнул, прикрыл ладонью рот, чтобы не показывать зебры. Вот, вроде во хмелю, а стеснительный. Зубы у него худые, наросли вкось-вкривь, которые уже и съелись до корня, и мужик стеснялся своего недостатка.
Мать Анна постоянно попрекала: «Артем, голова ломтем! Я старуха старая и то железные себе в пасть вставила. А за тебя, такого урода околетого, какая девка кинется? Кашкой манной кормить?» – «Мать, я мясо глотаю не жуя. На кой мне зубы?..» – И вот я проглотил охотоведа не жуя. И не подавился. – Гаврош взглянул на меня в упор страшноватым взглядом и, заметив мое смятение, приобтаял лицом, решительным взмахом приоткинул седеющую челку, открыл высокий узкий лоб. – Послушай: на гувне птички поют, а на душе кошки скребут... На гувне собаки лают, а в избе детишки грают... Как-нибудь принесу тебе свои стихи. Почитай... – Гаврош принагнулся, пошарил слепо в подножье ветлы и в расщелине обнаженного узловатого корня, приобсыпанного древесным прахом, отыскал бутылек и сосудец. Налил всклень:
– Будешь?.. И не надо... – Выпил залпом, замотал головою, как будто принял добровольно смертельную отраву, ущипнул стебелек пырея, зажевал. Столько и закуски надобно ему. И очнулся Гаврош, и уже осмысленно посмотрел на меня. – Знаешь, с Пасхи пью – и ничего. Никакой карачун не берет, – сказал хвастливо, блудливая усмешка искривила губы. – Русских нельзя перепить, а значит, нельзя и убить.
– Не хвались, едучи на рать. Добрым бы чем похвастал, Артемон...
На миг у ветлы воцарилась тишина. Гаврош, наверное, перемалывал мой упрек, раскручивал заржавевшие от пьянки шестеренки в голове, чтобы навострить разговор. Я же с удивлением поогляделся, словно по чьей-то причуде впервые угодил в Жабки. Вроде бы из просторного рукава зипуна Господь вытряхнул на землю горсть изобок, и они натрусились беспорядочно, кой-как, но все же всякое житьишко норовило поближе прижаться к Проне, сунуться поперед соседей, не боясь половодья. По веснам с верховых боров в реку устремлялись звонкие ручьи, они-то и размыли навечно единственную улицу во многих местах, и эти водомоины, не просыхающие даже в июльскую жару, делали деревню вовсе непроезжей. Как бы нарочно, Господь перекроил наволочек, разбил селение на хутора, чтобы люди не грызлись, но из-за скверного характера жили осторонь. Хоть и Петровщина ныне, но если и затеется где гулянка, то в своем кругу, и там соберутся лишь свойские, того гнезда насельщики, а всякого стороннего еще издали приметят и станут гадать, кого несет нелегкая.