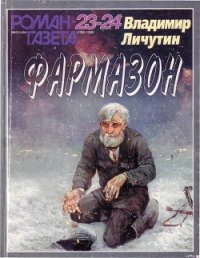Беглец из рая - Личутин Владимир Владимирович (полная версия книги txt) 📗
– Раньше надо было хороводить. Молодые девки пьяниц не любят, – с неожиданной для себя ревностью перебил я, словно бы на эту Таньку имел неотъемлемые права.
– Много ты, Паша, понимаешь... Раз сказал: отобью, значит, отобью. Мое слово – закон. У меня все схвачено. Много людей на миру, а все как осенние мухи. Только жужжать да кусаться исподтишка... – Гаврош проводил взглядом девицу. – Я хоть и дурак, но умный, зараза, у меня все схвачено. А ты к Таньке не вяжись.
– А с чего ты взял? – невольно смутился я. – Девчонку вижу впервые... Нет, второй раз. Припоминаю, ей было лет восемь, у нее были задорные, навроде козьих рожек, косички и лупастые смешливые глаза...
– Все помнишь, а притворяешься. Круть-верт. Хочешь всех обмануть? Никак не пойму, Паша, чем ты занимаешься? Ну где деньги берешь, капусту рубишь, бабки делаешь. Служить не служишь, все лето груши околачиваешь, а при чем-то состоять надо? Надо...
– Да так, – отмахнулся я, чтобы отвести от себя разговор. – Ерундой занимаюсь. Наблюдаю, кто как с ума сходит и кого что ждет.
– И за ерунду хорошие деньги платят?
– По мелочи... Но с голоду не пухну.
– Ну смотри, – угрозливо пробубнил Гаврош, едва совладая с немеющими губами. Движения его стали вялыми, ватными, беспомощными, словно бы все тело развинтилось и едва держалось на болтах. Но из стакашка допил, сосудец тут же выпал из ладони в опаленную солнцем траву и не разбился, а закатился в тень под скамью. Гаврош наклонился, тупо поискал посудинку, а не нашаря, скрутился на лавке в комок, заняв удивительно мало места, и уснул.
4
Как и нагадала мать, мой сон оказался в руку.
Ночью из ничего вдруг скопилась гроза, под утро выполоскало дождем.
Я не спал, полный какого-то радостного ожидания; словно бы я, великий немой, должен был назавтра заговорить. Так было обещано свыше.
И вот, сидя у распахнутого окна, под тонкие всхлипы и прихрапывания матери, спящей в шолнуше за ситцевой занавеской, я с надеждой вглядывался в мрак шумной грозовой ночи, которую всесильный сапожник вспарывал огненным ножом и с треском раздергивал на портища, и в этом разъеме невидимыми небесными руками торопливо меняли театральные декорации, которые я не успевал схватить глазами полностью. Они были причудливы, как замки Средневековья, и аляповаты, как католические соборы, тут же в прах и превращающиеся в клубы багрового дыма. И торопливо задвигалось небо, по аспидной плите чертили раскаленным алмазом, рассекая гранитную плоть, и с неожиданным грохотом сыпались на грешную землю огромные раскаленные булыги, опрокидывались кадки с водою, чтобы залить их.
«Ах, как хорошо!» – мысленно восклицал я, утираясь от дождевой пыли, восхищаясь очистительной литургией со звонкоголосыми клирошанами, басистым дьяконом и тенористым батюшкой, махающим перед моим носом то кропильным веничком, то кадильницей с тлеющими запашистыми угольями, рассыпающими шипящие, скоро угасающие искры. Но от этих искр в стороне кладбища вдруг загорались блуждающие огоньки, вспыхивали голубые сполохи, кто-то мятущийся в белых пеленах подымался из разъятой земли и торопливо направлялся ко мне навстречу.
«Боже мой, как хорошо-то!» – не однажды повторял я чужие слова, сказанные до меня многажды; может, и миллионы раз, и многажды запечатленные в романах, и всегда свежие, новые, волнующие, просительно-тоскующие, единственно верные в ночи, растерзанной очистительной грозою. Бывало, покойный сосед Тихон Баринов тоже не сыпывал в подобные ночи, а, покуривая на лавочке, при каждом грозовом раскате повторял весело: «Были бы дождь да гром, не нужен и агроном».
Моя же тетя Палага в Нюхче в грозу обычно выскакивала на улицу и со счастливым отрешенным лицом встречала каждую молонью, летящую ей навстречу, и подставляла грудь, выпрастывая ее, неистраченную, из-под сорочки, словно бы встречала Духа Святого, ниспосланного Господом для ее тоскующей утробы. Смешная была эта тетя Палага, честное слово. Она бегала зимою на лыжах в Вологду за триста километров, только чтобы посмотреть на чудо-трамвай и прокатиться на нем. Вот и мне каким-то непонятным окольным путем передалась ее натура, словно бы я и выпал из ее чрева, однажды осчастливленного небесной молоньей...
И вот ливень так же неожиданно прекратился, прояснился сосновый бор на кладбище, тускло нарисовался глянцевый угол соседней изобки. С яблонь в саду капало гулко, весомо, с протягом; словно бы отлитые ружейником пули отрывались от шиферной крыши и шлепались в полное нутро бочки, выставленной под потоку, чтобы остыть там и обрести завершенный вид. И в лад дождевой капели последние ошметки тревоги сползали с помолодевшей души, обнажая в ней хмельную пустоту, готовую для грядущей радости. Нынче я заговорю в полный голос...
В полдень на плечах пронесли на кладбище Славку. У него было острое желтое лицо, странно выхудавшее за двое суток, носик пипочкой торчал из гроба, и ничто не напоминало прежнего румяного, зычного, нагловатого и доброго водилу. Жену его, мешковато оплывшую в руках родичей, почти пронесли. Потерявшая хребтину, она превратилась в груду костей, небрежно завернутых в тряпье; черные волосы покровцем сбились на лицо; баба уже не выла, а курлыкала горлом да изредка надсадно вздыхала. Она, может, и зря так надсаживала себя, но, принявшись выть по обычаю, уже не могла остановиться, хотя еще намедни сулила мужу всяких горестей. Ведь Славка, стервец, прикатил в Жабки на один лишь день, чтобы, вернувшись в столицу, тут же отправиться с любовницей в Турцию на благословенные пляжи Анталии, с такой любовью воспетые рекламными зазывалами.
Братцы мои, откуда вдруг приходит к человеку эта слезливая умиленность, когда душа, внезапно возрыдав, вроде бы без особой на то причины, по вовсе чужому человеку, ну никак не может успокоиться; и так горько тогда в груди, так невыносимо опустело, будто самого близкого кровника провожаешь на тот свет.
Я беспричинно заплакал, глотая соленую влагу, слизывая ее с губ, смахивая ее кулаком с лица, стыдясь своей слабости, невольно отстал от похорон, сбился в сторону, за соседние могилки, за широкую розвесь запашистого малинника, источающего после дождя запах медового сиропа. Так ребенок скрывается от взрослых, чтобы в одиночестве пережить глубокую обиду, которую на людях невозможно перетерпеть.
Зажимая в себе стенания, чтобы не завыть по-бабьи, переполненный необычной тоской, я плакал по себе, оплакивал себя, уже погребенного, впусте прокочевавшего по отпущенным Божьим благословением дням. Теплая река жизни сулила мне по рождению столько благодатей, по-доброму приняла меня в свое бархатное лоно и понесла по течению, но оказалась, по несчастию, запруженной гадами, тварями, пираньями, пожирающими меня, еще живого, кровоточащего, не утратившего последних мечтаний. Я плакал, что Господь меня обманул, оставил на росстани меж трех дорог и своим молчанием, своим попущением подтолкнул в неверную сторону. Если ночь я коротал с сухими очами, вглядываясь в грозовой мрак, полный ожиданием радости, то живительная влага, излившаяся на землю и наполнившая меня всклень, сейчас, промыв душу, утекала прочь, вынося нажитые яды... Я рыдал и никак не мог унять слез...
По заведенному в деревне обычаю покойника закопали на рысях. Еще людской ручеек, виясь вокруг холмушек, не влился весь в ворота, не обмелел и не иссяк, а Федор Зулус, обрывая чавканье ног, взял прощальное слово: «... Он не ездил на машине, он летал, такой отчаянный шоферюга был наш Слава... От Бога водитель, честное слово. Мы до четырех утра сидели накануне, перед тем как ехать ему, говорили за жизнь. Я говорил: поспи, отдохни. Он сказал: «Тороплюсь». Он боялся погаснуть, он горел. Прощай, братан, встретимся в раю. Дороги тебе без кочек и ухабов. Всех скоростей тебе без запретов и ментов, и никакой гаишник теперь тебя не остановит...»
Народ зажидился, захлюпал, взвыла жена: Славка повиделся ей чистеньким и совестным, светлее зеркала; все огрехи вдруг смылись в ручьях слез пред той жутью, что открылась перед вдовою. Будто не в яму захоранивали благоверного, а скидывали торопливо в пропасть, полную смрада и стонов. Гаврош нетерпеливо переминался на песчаной покати холмушки, подпирал плечом деревянный крест и ждал команды. Он никогда не провожал на кладбище, не терпел этих прощальных стенаний, вынимающих душу, и меня несказанно удивило, что егерь удостоил усопшего такой чести. Песок отекал под ступнею, и, сердясь на возникшую заминку, Гаврош воскликнул в сердцах, видя, как жена приникла к покойному, распустив волосы на остывшее, неряшливо заштопанное и припудренное лицо с синяками под глазами: