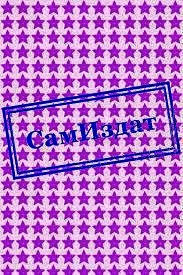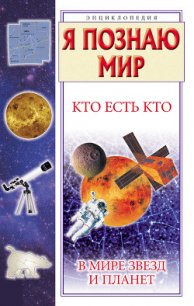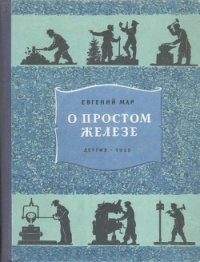Из чего только сделаны мальчики. Из чего только сделаны девочки (антология) - Фрай Макс
Тренированный Ковальчик непроницаем. Я рассказываю о диване, о вороне, о корабле ратуши, что движется на мой дом неумолимо и неуклонно.
– Это нормально, – вновь удивляет меня пан Ковальчик.
– Да?
– А вы ожидали, что за парочку поэтических образов я надену на вас смирительную рубаху?
– Что-то вроде того, – отвечаю уклончиво, и, в предвкушении лоботомии, выкладываю целый ворох всякой всячины. Повествую про призрак польской бабушки; про ощущение застывшего времени; про то, что странные вещи, происходящие со мной в Гданьске, не поэтические образы, а свидетельства сбоя в ходе вещей.
Я говорю долго и монотонно, но Ковальчик не выглядит усталым или соскучившимся. Делаю глоток остывшего кофе, морщусь.
– Орел или решка? – спрашивает доктор на своем безупречном русском. От удивления я перехожу на свой убогий польский.
– Цо пан поведзял?
Ковальчик подбрасывает монету, припечатывает ее ладонью. Выжидающе смотрит на меня.
– Ну, решка, – говорю я недоуменно.
Он открывает монету. Решка. Ковальчик в задумчивости прикусывает губу.
– Давайте немного прогуляемся, – предлагает он, и я равнодушно пожимаю плечами.
На улице – один из тех самых янтарных вечеров, с которыми, как уверяла польская бабушка, не сравнится даже прославленный алтарь святой Бригиды. В воздухе – запах гнили.
– Лев посвятил меня в детали случившегося с вами, – безмятежно сообщает несимпатичный Ковальчик. – Я осведомлен об аварии и о вашей сестре. Если бы монета упала орлом, я сказал бы обычное: у вас сильный посттравматический стресс, не волнуйтесь, ситуация абсолютно нормальна.
– Но не скажете?
Ковальчик игнорирует вопрос:
– Тем не менее, я настоятельно порекомендовал бы ни в коем случае не плыть по течению и посоветовал бы ряд мер, простейшая из которых – помощь компетентного профессионала.
«Он дорого не возьмет», всплывает в голове, и я мысленно хмыкаю.
– Но монета упала решкой, и я скажу вам совсем другое. Вам некомфортно в этом городе, потому что вас больше не устраивает тут находиться. Вы не можете отсюда уехать, потому что еще не поняли, как.
Он смешно шмыгает носом и лезет в карман за платком.
– Психиатр не мог бы помочь вам в этом, – очки ослепительно вспыхивают. – Но я не психиатр. Во всяком случае постольку, поскольку монета упала решкой.
Громада портового крана вздымается впереди. У крана есть имя – Журавль, но я называю его Бегемотом. Бегемот застыл над водой, высматривая Левиафана.
– Вам нужно только правильно сформулировать вопрос.
Улицы Гданьска залиты солнцем, польская бабушка волшебна и юна, а на моем окне меня ожидает ворона-пучеглазик. И я говорю:
– Это Гданьск.
Вспоминаю, что нужен вопрос. Исправляюсь:
– ... да?
Это все он – город-капкан, город-обман, город-болезнь. Дело не во мне, дело в нем. Да?
Доктор Ковальчик качает круглой головой.
– Это не Гданьск.
Жидкий янтарь начинает загустевать. Идти становится все тяжелее.
Это – не Гданьск. Поднимаю голову и упираюсь взглядом в Бегемота. И это – не Гданьск. И почти неподвижная Мотлава. И стройный ряд фонарей.
– Как? – каркаю я по-вороньи.
И чайка, сидящая на перилах набережной, смотрит на меня настороженно и враждебно.
Я бреду по Королевскому Тракту и вглядываюсь в слепые окна домов. Монета упала решкой, и правильно сформулированный вопрос получил ответ.
Почему вы не появились раньше, доктор Ковальчик? Я и так промешкала слишком долго.
Гданьск. Не-Гданьск. Каким бы ни было твое имя, мне неуютно в тебе, мой призрачный город. Перестанем удерживать друг друга. В той аварии нет виноватых, а в том мире нет смерти. Младшая ждет меня по ту сторону стекла, нетерпеливо сверкая круглым глазом. Она выглядит сердитой – но сердится она не потому, что за рулем «фордика» была тогда я, а потому что я никак не могу осознать, до чего это неважно, и наконец-то открыть безнадежно заклинившее окно.
Марш боевых барабанщиков
Софа Сергеевна была заколдована первой. Просто этого никто не заметил, потому что она и раньше была злой и сердитой.
Заметил только новенький, рыжий Костик Воробьев.
– Всё, – сказал он таинственно. – Она теперь как ведьма.
Над Костиком посмеялись. Павлик Бизяев назвал его «чеканутым», а Танька Шевченко презрительно сказала, что в ведьм и колдуний верят только недоразвитые.
Но Костик не смутился.
– Дура ты, – сказал он Таньке. – Доразвитая.
Танька обиделась и сильно толкнула его в плечо. Но Костик драться не стал. Он пошел сел за столик у двери и стал внимательно смотреть в коридор.
Маша делала вид, что рисует, а сама тайком следила за Костиком, что он там делает.
– Ты что делаешь? – спросила она его через какое-то время, строго нахмурив брови и стукнув по ножке стола носком туфли.
– Слежу, – ответил Костик. – Чтобы в шкафчики не полезла.
– Кто? – шепотом поинтересовалась Маша, перестав дышать от загадочности происходящего.
– Нянька, – сказал Костик сурово и значительно. – Она главная.
Не врет, поняла Маша. Сразу стала понятна куча разных вещей. Почему в коридоре поселились длинные ползучие тени, так что в одиночку туда и нос сунуть страшно; почему двери скрипят теперь так протяжно и визгливо, что кажется: стоит зазеваться, и они откусят тебе руку; почему за окнами то и дело мелькают черные косматые звери с горящими глазами и оскаленными огромными зубами. И что во время тихого часа снятся такие гадкие сны, что хочется плакать; и что некоторые игрушки стали совсем живые и тоже отчего-то недобрые. Как Софа Сергеевна. Насчет нее тоже стало понятно.
Хоть она и раньше все время кричала и сердилась, теперь она кричала и сердилась по-другому. Теперь, если она ругалась на нее, на Машу, Маша чувствовала, как по рукам бегут ледяные мурашки, и голос совсем отнимается, и пошевелиться нет никакой возможности – как будто от Софиных слов она потихоньку превращается в снежный сугроб. Ужасно от этого было плохо – хуже были только косы. Софа завязывала их так туго, что кожа на голове натягивалась, как на барабане, а в глазах щипало, словно от лука. Маша шипела сквозь зубы и дергала ногой, а Софа кричала, чтобы она не вертелась и не дрыгалась, а не то придется заплетать все снова.
И суп, который иногда стал пахнуть кислятиной. И тусклые лампочки. И тоненький вой за окнами, от которого хочется залезть с головой под одеяло и заткнуть уши пальцами. А в садик теперь из-за всего этого идти не хочется совсем. Прямо до невозможности.
«Не капризничай», – говорит мама. И еще: «Ты уже большая».
Считает, что Маша выдумывает, чтобы остаться дома.
А на самом деле вон оно как.
– Хорошо, что ты к нам попал, – сказала она рыжему новенькому.
– Я не попал, – возразил рыжий. – Я специально.
«Как это?» – хотела спросить Маша, но не спросила. Какая разница, как. Главное, что теперь делать.
– Ты только не трусь, – сказал Костик уже потом, после обеда. – Тут самое важное – не трусить. Знаешь, сколько я их уже поборол?
– Сколько? – спросила Маша.
– Пять, – ответил рыжий.
– И все они были нянечками?
Оказалось, нет. Одна была врачихой в поликлинике, другая – продавщицей в магазине, третья работала в библиотеке, а еще две притворялись просто старенькими бабками на пенсии.
– Если забоялся, значит, они победили, – сообщил Костик. – И могут делать, что хотят. Так что если ты бояка или плакса, лучше не лезь. Хуже будет.
– Я не плакса, – твердо сказала Маша, – я хочу помогать.
Ей показалось, что притаившаяся в темном коридоре нянька – та самая нянька – буравит ее колючим внимательным взглядом. Маша втянула голову в плечи и на всякий случай отошла за этажерку.
– Не трусь, – строго сказал Костик.
Маша вытянула голову обратно и кивнула.
– Сейчас поведут спать, – продолжал новенький. – Но ты не усыпляйся. Лежи смирно и читай какой-нибудь стих про себя.
– Какой?
– Все равно. Лучше подлиннее. Поняла?