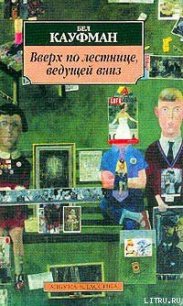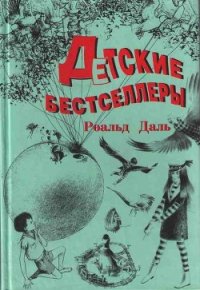Муравечество - Кауфман Чарли (читаем книги бесплатно txt) 📗
Я делаю решительный шаг и… это лучше, чем я мог вообразить. Роскошные обнаженные женщины-клоуны. Их много! К вашему сведению, обнаженные мужчины-клоуны тоже встречаются, и, как оказалось, они пугающие настолько же, насколько женщины-клоуны соблазнительны. Я уточняю критерии поиска, чтобы исключить их, и в этот раз жму на «ввод» без сомнений. Поиск я кончаю (буквально и фигурально) на изображении молодой клоунессы, воплощающей в себе все, о чем я мечтал в обнаженной клоунессе. Ее псевдоним — Солнечная Радуга, и она… все, что мне нужно.
— Рассказывай, что видишь, — требует Барассини.
Заметно более молодые Мадд и Моллой, ребячливый и очаровательный, худой и толстый соответственно, выступают в бурлеске где-то в маленьком городе. Это или флешбэк, или просто более ранняя сцена из фильма. Не знаю, как понять. Не думаю, что это имеет значение. Если фильм «Горчица» чему-то нас и научил, так это что строгая хронология не имеет значения. Я в виде глаза парю где-то на галерке, затем подлетаю поближе к сцене, над головами зрителей. Прекрасный и изящный кадр, и я исполняю его мастерски. В мире моей памяти я прямо Роджер Дикинс.
— Африка — невероятная страна. Я забронировал нам билеты, — говорит Мадд.
— Я не поеду. Африка меня пугает, — говорит Моллой.
— Господи, чего там бояться-то?
— Я боюсь темноты!
— На самом деле Африка — не черный континент! Это просто фигура речи.
— А что это значит?
— Значит, что она неведомая.
— Но тогда как мы про нее ведаем?
— Нет-нет. Это значит, что Африка для нас — загадка.
— Главная загадка — это кто украл лампочки во всей Африке!
— Да перестань ты. Ты замечательно проведешь время. Там очень много прекрасных диких животных.
— Дикие животные должны быть в зоопарках, где им и место.
— Не говори ерунды. Животные должны свободно бегать.
— Я и не говорю, что нужно штрафовать их за бег. У них даже карманов нет, чтоб бумажник носить. Кроме кенгуру.
— В Африке нет кенгуру.
— Ну так если там нет даже кенгуру, зачем там быть мне? Я умнее кенгуру.
— Уверен, ты действительно умнее некоторых кенгуру.
— Вот именно. Спасибо. Эй, погоди-ка…
— Подумай о туземцах. Мы увидим убангийцев, пигмеев, ватузи…
— В каком-таком атузе?
— Ватузи. Ты что, не слышал про ватузи?
— Какие еще права тузи? Им разрешают водить машину?
— Нет-нет. Я спрашиваю, знаешь ли ты, кто такие ватузи.
Сцена развеивается, как дым. Я продолжаю парить, теперь над пустотой, вокруг — кошмарная чернота.
— Что дальше? — спрашивает голос, эхом отдаваясь в черноте.
— Ничего.
— У нас осталось еще двадцать минут.
— Тут ничего нет. Пожалуйста, отпусти меня пораньше. Мне не нравится тут висеть.
— Еще двадцать минут, — повторяет голос. — Продолжай искать.
И я жду, я парю, я ищу, но ничего не могу найти. Чтобы как-то себя занять, представляю, как Солнечная Радуга кружится на равнинах Серенгети, и кончаю. Не знаю, заметил ли Барассини.
* * *
В спальном кресле, в состоянии иррациональной паники, которое настигает по ночам, мне приходит в голову, что, возможно, причина, почему мне не удается собрать воедино воспоминания о фильме Инго, в том, что они «съедены» некой болезнью мозга, энцефалопатией или чем-то еще не изученным, каким-то неизвестным паразитом. Я представляю, что такое существо, будь оно заразным, перебиралось бы из мозга в мозг, пожирая и опорожняя переваренные воспоминания в виде отходов. При таком — признаться, научно-фантастическом — варианте развития событий человек бы получал «переваренные» воспоминания других людей — или, если угодно, фекальные. И я уверен, что уже не раз натыкался на эти странные фрагменты в своих так называемых хранилищах памяти. Обрывки воспоминаний о работе у конвейера, вкус джема из рамбутана, попытка примерить несколько пар джегинсов (лично я пытался примерить только одну пару!). Возможно, эти и прочие неожиданные фрагменты воспоминаний — всего-навсего плоды моего невероятного воображения и часто отмечаемой другими эмпатии, но эти мысли настолько убедительны, что аж пугают. Я, конечно, не знаток фантастики, хотя весьма уважаю труды афроамериканских гениев Октавии И. Батлер, Сэмюэля Р. Дилэни и Тананарив Дью, которые взяли этот легкомысленный жанр и превратили в инструмент для исследования социальной и расовой несправедливости. Их книги не для фанбоев, этих подростков с замедленным развитием, которые устраивают истерики, когда выходит очередная часть «Звездных войн» или любая другая космическая опера да белиберда про путешествия во времени, — но скорее для тех, кто всерьез вовлечен в борьбу за справедливое общество. Или ее зовут Октавия Спенсер?
Малачи Чик Моллой родился в 1906 году. Еще в юном возрасте у него диагностировали «неусидчивость» и определили в специализированный центр — в школу для неусидчивых детей в Парамусе, где лечат с помощью привязывания к вращающимся доскам, гидротерапии, инсулиновых ком, фиксаторов для ног и ремесел. В тринадцать он сбегает, выпив «Микки Финна»[93] и отключившись в корзине для белья, которое затем вывезли за пределы школы для стирки. «Микки Финн» подавляет неусидчивость, из-за чего близорукий водитель прачечного фургона принимает Моллоя за комплект постельного белья. Оказавшись в Нью-Йорке, он находит работу — ходит по улицам с рекламным плакатом «Веронала», снотворного на основе барбитуратов производства компании «Байер», со слоганом: «Будь у меня „Веронал“ я бы спал как младенец». С обратной стороны плаката написано: «„Веронал“ безопасен для младенцев!»
Я тоже здесь, на улице, причем — неожиданно — не в виде глаза, а в теле, блуждаю в поисках Моллоя. Я хочу взять у него интервью для книги. Я знаю, что, если найду его, это будет сенсация и книгу ждет гарантированный успех. Но не могу его найти. Обращаюсь к полицейскому в цилиндре (в цилиндре?), спрашиваю, не знает ли он Моллоя. У того сильный ирландский акцент, он зовет меня «малым» и говорит, что если я немедленно не вернусь обратно в минус-школу аристотелевской поэтики Эразма Дарвина на Декалб-авеню, то он арестует меня за «симуляцию болезни и прогул». Я терпеливо объясняю, что, мол, спасибо, конечно, за комплимент, но я уже давно вышел из школьного возраста. Нет, не вышел, говорит он, сейчас 1923 год от рождества Господа нашего Иисуса Христа. И я осознаю, что он прав. В 1923 году мне минус двадцать семь лет, и я в минус-школе. Просто в свои минус двадцать семь меня уже девять раз оставляли на второй год. Господи, надо срочно закончить минус-школу и поступить в минус-университет. Я паникую и бегу в класс.
Вне сеансов гипноза, на экскурсии с гидом в музее стульев на Лонг-Айленде по выставке «Стулья, похожие на гигантские руки, и их роль в истории», у меня случается момент предельной ясности и я наконец полностью вспоминаю первые секунды чудесного фильма Инго: пока гид Памела не видит, я ладонью стряхиваю с бархатного сиденья chaise à main[94] Луи XVI крошки от крекера, осыпавшиеся с моей бороды, и затем вновь стряхиваю их с ладони еще одной ладонью. Иногда от меня ускользает правильное слово, и я произношу или думаю что-то комически неправильное, или неправильно звучащее, или неправильно подуманное. «Второй». Правильно сказать «второй». Второй ладонью. Я отряхиваю вторую ладонь о… матерчатые тубусы для ног? Вряд ли. Может, ножные штаны. В любом случае это простое действие — моя «мадленка Пруста», если угодно, — переносит меня назад во времени.
Инго затягивается цигаретой (он сам ее так называет), кладет руку мне на плечо и опускает меня на стул, где на сиденье, похоже, рассыпаны крошки печенья. Свет выключен, жалюзи опущены, проектор жужжит.
Начинается. Зубчатая белая царапина на черном фоне, еще одна, и еще, и еще. Затем множество мелких царапин: как снег в ночи при свете фонаря. Затем — фильм. Черно-белый. В пятнах грязи: одетая как лесная нимфа женщина — или, конкретнее, марионетка — исполняет эротический танец. Это кукольный мультфильм с использованием техники, которую иногда называют «покадровая анимация». Возможно, вы слышали о Рэе Харрихаузене, великом мастере покадровой анимации. Возможно, вы помните его работу по фильму 1933 года «Кинг-Конг». Нет, это был Уоллис О’Брайан. Я оговорился. Или, скорее, одумался. В последнее время такое со мной случается все чаще. Кажется, со мной что-то происходит, и у этого есть какая-то глубинная, естественная причина. Страшная причина. Почему я забываю? Почему роюсь в мозгу в поисках пропавших слов? Теперь окружающие, из вежливости или из нетерпения, подсказывают варианты.