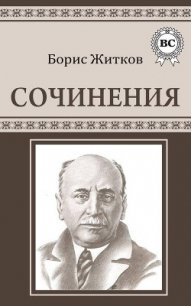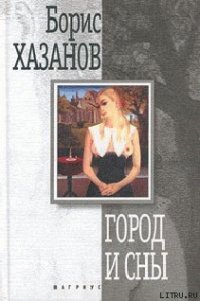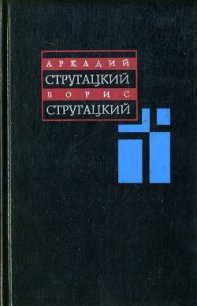Портрет незнакомца. Сочинения - Вахтин Борис Борисович (лучшие книги онлайн .txt) 📗
— Ты почему так раскраснелась? — спросил сержант.
Фрау глянула на него без улыбки и прямо, встала, взяла его за руку и повела. Из старинных часов раздался тихий звон — било одиннадцать.
Фрау привела сержанта в темную большую комнату, где зажгла две свечки в высоком подсвечнике. Темно-синие шторы наглухо закрывали окно. Фрау улыбнулась сержанту и вышла.
Сержант огляделся. Едва ли не половину комнаты занимала огромная дубовая кровать, застеленная крахмальным бельем. Сержант шагнул к ней, и кто-то шевельнулся в углу комнаты, и сержант резко повернулся, спустив предохранитель в кармане халата.
В углу стоял трельяж, и в его зеркалах сержант увидел себя с разных сторон — бритое белое лицо с черными бровями, автомат в левой руке, правая засунута в карман, как у однорукого. Он обошел кровать, придвинул кресло, повесил на него автомат, затем халат карманом к себе и лег в постель.
Бесконечная мягкость перины приняла его.
— Эй, — позвал сержант негромко, и сразу вошла фрау, словно ждала за дверью.
Она успела переодеться, и на ней было что-то похожее на длинное до полу белое платье. Не глядя на сержанта, словно его и не было тут, фрау подошла к трельяжу, подняла руки к волосам — и светлые волосы сразу освободились и упали ей на плечи. Так же не торопясь и не оборачиваясь фрау расстегнула свое длинное одеяние, повела плечами, и оно соскользнуло на пол.
Сержант смотрел, приподнявшись на локте левой руки. Ничего особенного не было в этой фрау — какое лицо, такая и вся она оказалась, просто нормальная, просто ни в чем ни избытка, ни недостатка, чуть розовая в свете свечей, ничуть не ах, но сухо стало во рту у сержанта, и хмель застучал в голове, а рука, державшая щеку, вздрогнула и ослабела.
Бездонная перина приняла внешне спокойную фрау.
«Учат их где-то, что ли, — думал сержант, удивляясь сам себе в ходе этой удивительной ночи, — или она меня и в самом деле полюбила? Но как же это возможно, чтобы так сразу, случайно я к ней попал, мог и другой».
— А если бы другой зашел? — спросил сержант. Фрау сняла голову с его плеча, потянулась куда-то рукой. Сержант скосил глаза. Она взяла со столика сигарету, вставила ему в рот, зажгла спичку.
— Не поняла ты, — сказал сержант, закурив, а пепельница уже была у него под рукой. — А если бы другой, я спрашиваю?
Фрау прижалась к нему теснее, нежно провела пальцами по его груди. Коснулась шрама, задержала пальцы.
— Пустяк, — сказал сержант. — Царапина.
На него вдруг набежала и сразу пропала быстрая мысль, что сейчас откроется дверь и войдет кто-то, кто здесь по праву и повсеночно спит, и он подумал о кармане халата и о револьвере, но фрау склонилась над его шрамом и стала легонько его целовать, и сержант отставил пепельницу подальше, на деревянный край кровати, пепельница упала оттуда и зазвенела.
Фрау подняла глаза на сержанта, и он увидал, что в глазах у нее слезы.
— Ну, чего ты, — сказал он и недовольно глянул на витые свечи, сильно уже укоротившиеся.
Стремительно скользнув, фрау задула свечи и неудержимо прижалась к сержанту.
Был полный мрак теперь вокруг, за окном прошагал патруль, профырчала машина.
Ночь бежала неторопливо, удивительная первая ночь после войны, и сержант не мешал войне уходить из него через кончики пальцев, через дыхание, которое становилось все свободнее и свободнее, не мешал входить в него любви — сначала от удивления, потом от человеческой кожной радости, потом уже и неизвестно откуда.
— Утомилась она к утру и замерла, а я нашел у спинки кровати какой-то толстый шнур, потянул его для проверки, и вдруг шторы слегка раздвинулись, и немного мутного света попало в комнату, а я закрыл от него глаза и задремал. И не долго я дремал, может, минутку одну, но приснилось мне что-то до того неприятное, что и не помню толком, а очень только неприятное — будто гонятся за мной фашисты и врываются сюда через дверь, а я хватаю револьвер, но тут моя фрау, как кошка, в меня вцепляется, а они кричат ей: «Ножом его, ножом!».
Сержант вздрогнул, открыл глаза и сел на постели.
Светилось мутно чужое окно, тяжко свисали чужие занавески, постыло и глупо стояли зеркала в углу. Рядом беззвучно спала незнакомая женщина, паршиво пахло какими-то духами, шелком, мебелью — ни одного знакомого запаха, даже пепел с полу, рассыпавшийся из пепельницы, пахнул непривычно. Вино и любовь ушли из сержанта, и внешний свет, медленно нарастая в окне, звал к обычной жизни, напоминал о жене в далекой деревне, о матери, об их доме, почерневшем от дождей.
Что он делает здесь, он, солдат, среди этой квадратной шири чужой кровати? На черта ему теплая ванна, дурацкий халат? На черта ему эта баба, такая вдруг постылая и ни к чему? И этот домик с палисадничком, тирли-мирли, аккуратненький, чистенький, надо же, как живут. Может, и он так бы не прочь, да вот не надо ему, пропади оно все, не под силу ему, не выдержать, хоть криком кричи.
И что это он молол ей ночью? Тоже хороша — заманила первого попавшегося и ластится, ублажает. Чего ей надо? К чему подкрадывается? Царапину целовала, а сама небось своего фашиста при этом вспоминала. Лежит ее фашист где-нибудь в земле со всеми потрохами, а она в нем своего фашиста представляет. Может, и вправду похож? Вырядила под своего фрица и воображает.
А может, и посерьезней что замыслила? Недаром рассказывали, что вот так немки наших заманивают, ублажают, а как наш брат расслабится, размякнет, они его сонного или спящего — на тот свет прямым ходом. Но меня так не возьмешь, сейчас встану и уйду, привет, не получится у тебя.
Фрау вздохнула, словно всхлипнула, повернулась к сержанту, потянулась к нему.
Отчего же и нет? На прощанье, так сказать. Только молча и грубо, как ты того заслужила, вырядив меня под фрица своего. Что, меньше так нравится?
Сержант еще лежал на ней, словно вдруг уснул, когда рука фрау тихо-тихо снялась с его плеча и тихо-тихо скользнула под перину.
Но сержант это видел, потому что ждал. Он хорошо помнил, как проворна была фрау, когда гасила свечи, и потому действовал быстро и четко, заранее все соизмерив и рассчитав — где он, где карман с револьвером.
И когда он стрелял, фрау не успела даже голову к нему повернуть, даже глянуть и вскрикнуть.
Он выстрелил только один раз.
Сержант надел халат и туфли, обошел кровать с мертвой, тихо лежавшей в бесконечной мягкости и белизне, вынул ее теплую нежную руку из-под перины.
— Ты думаешь, нож эта рука держала? Какой-то платок шелковый, на черта она за ним полезла, скажи?
— Мало ли зачем, — сказал я.
— Нет, ты погоди, не пей, до поезда еще долго ждать, успеешь, — сказал он. — Выпьешь еще. Двадцать лет прошло, старый я уже. Зачем ей этот платок нужен был?
— Мало ли зачем, — сказал я, — женщине платок в кровати.
— Ты объясни, зачем я стрелял? — спросил он. — Схватил бы руку наконец. Чего я испугался? Не ее же?
— Нет, не ее, — сказал я.
— А чего? — спросил он.
— Как же ты выпутался? — спросил я.
— Как, как. Рассказал я все следователю, а он на меня как закричит: «Фашистку выгораживаешь? Платок выдумал? Нож у нее был! Ясно? И если, — кричит, — слово еще про платок скажешь — я тебя, — кричит, — в лагерях сгною!» И отправили меня конвоировать эшелон, а потом сразу демобилизовали. Следователь к эшелону пришел. «Ты, — говорит, — сержант, из головы эту ерунду выброси, пьяный ты был, не запомнил точно. Поезжай к жене и матери, пять лет они тебя ждут, живи спокойно, не виноват ты лично ни в чем. Ясно?» — «Так точно, ясно», — говорю. Очень злой был следователь, никому я не рассказывал.
— А мы с тобой раньше не встречались? — спросил я.
Он посмотрел на мое белое лицо с черными бровями и сказал:
— Нет, не встречались вроде. Так ты мне не можешь, значит, ничего объяснить?
Получается вроде так, что не могу. Еще много лет на свете пройдет и много крови прольется, пока друг другу сумеем что-то начать объяснять.