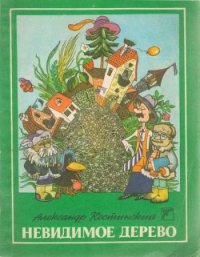Брысь, крокодил! - Вишневецкая Марина Артуровна (читать книги онлайн полностью .TXT) 📗
Как будто у него не было роуминга, как будто у него не было рук и губ! Я села в машину. Мое мокрое лицо, мокрое не от его прикосновений, — оно кричало об этом всей ноющей кожей… И я вдруг с ужасом поняла: он любит меня, а я его нет, я самым вульгарным образом его хочу. И, Боже мой, что же будет? Он прилетит, а я честно скажу: извините меня, Константин Васильевич, вот ваши деньги.
Но потом, когда я ехала в три часа ночи по пустой Москве, это желание стало во мне настолько огромным… И с этого времени подобные состояния вдруг ни с того ни с сего меня настигали фактически еще несколько лет. Сравнить это можно с очень сильной перегрузкой при взлете: та же унизительная, размазывающая тебя сила и даже вибрации почти те же. Только длился подобный «взлет» иногда до двух-трех часов. Да если бы с такой силой, Господи, да если бы с десятой частью такой силы мог человек тосковать по близости к Богу, мир давно бы стал другим. Но Ты, Господи, начал с того, что сказал: плодитесь и размножайтесь. И это Твое слово для человека так и осталось на первом месте.
Неделя до возвращения Кости тянулась, как в другой жизни год. А за год ведь может случиться все. И мы с Валерой уже договорились до того, что бросаем наших «любовников» и начинаем с ним все сначала. Причем мы оба искренне верили, что такое возможно. Он взял с меня слово, что я возьму на работе отгулы и на вторые майские праздники мы с ним на несколько дней поедем в Париж. Был такой фильм «Увидеть Париж и умереть». И это название тогда полностью передавало мои чувства. Костины деньги я запечатала в конверт. То, что за целую неделю отсутствия он мне ни разу не позвонил, на самом деле причиняло мне такую боль… и перенести ее иначе я не могла, а только — в полной решимости все прекратить. И тогда же, на той же неделе, у Леночки стали портиться отношения со своим мальчиком Славой. И она хлопала дверьми, а если звонили не ей, швыряла телефонную трубку, на одну ночь домой вообще не пришла, правда, мы знали, на какой она будет дискотеке, но мы же ее туда не пустили, и первую половину ночи под этой дискотекой в машине дежурил Валера, а в четыре часа с двухлитровым термосом кофе его приехала сменить я. В начале седьмого утра Лена вышла в обнимку с каким-то мальчиком, это точно был не Славик, тем не менее она целовалась с ним. И я еще подумала: ну надо же, чтобы мать и дочь были такими разными, чтобы я настолько не понимала собственного ребенка. Стояли еще довольно густые сумерки, и я молила Бога, только бы она не разглядела мою машину. Да, я молила Бога и о такой ерунде.
Костя позвонил мне на работу двадцать седьмого числа, прямо из Шереметьева. Он просто сказал: «Алла, привет, это Костя», — и всё, и с этой минуты я молила Бога о том, чтобы дожить до вечера, потому что увидеть его улыбку и этот жест, которым он несет к губам сигарету, или другой, довольно-таки неуклюжий, которым поправляет ремень, когда встает, — любой жест, любое выражение глаз! — это было как Северный полюс для стрелки компаса. Когда я вспоминаю сейчас этот порыв у себя в груди — такой порыв к другому существу может иметь только кормящая мать к грудному ребенку. С Леночкой у меня это и было. А после — никогда. Не было, не было у меня выбора, Господи, наверно, я это хочу сказать… я это и говорю сейчас — себе в оправдание.
Понимаете, чтобы в каждом новом дне принадлежать Создателю, быть Его любовью, Его состраданием, о, сколько же надо для этого потрудиться, провести в неустанных молитвах часы, иногда в один только день по многу часов. А тут тебе все достается даром. И ведь поначалу до чего же похожие возникают чувства. Когда мы с Костей в десять вечера встретились возле его любимого ресторана на Якиманке, у нас были лица и движения, как будто бы нам дали донести на третий этаж по пять десятков яиц, знаете, в таких ячейках из сжатой бумаги. И пока мы обсуждали, что заказать, и пока ждали, и когда уже ели, это чувство, ну, что ли, панической бережности — оно не уходило. И голоса от этого истончились — и Костин и мой, — я была уверена, что от нежности — у меня даже стало в горле першить, уж так я подсознательно налегала на связки. А сейчас я это понимаю совсем по-иному: голос — это еще ой какой эротический инструмент. Птички-то когда всего задушевней поют? Когда брачуются.
Все, все в нас — природа. Все, что ведет не к Богу, — можно без колебаний сказать: значит, это — она. И то же самое любовь к своему ребенку. Я же помню, как чужого ребенка, который Леночке на детской площадке песок в глаза насыпал, чуть не прибила. Хорошо, его мамаша рядом была, бросилась его отбивать. Как же я его трясла, Боже мой, я была вообще не в себе.
И вот мы с Костей сидели в отдельной кабинке, обтянутой пурпурно-синим в полоску шелком, на столе горела свеча, — впервые в жизни наедине. А с темами разговоров вдруг оказалось не очень. Ну, путешествия, ну, кухня в какой стране больше понравилась… Тему семьи не затронешь. Говорить о работе, но даже у меня это были предметы весьма конфиденциальные, а уж на его уровне и подавно. Вот стали мы постепенно о детях говорить. И ведь оба чувствуем, как они нас разлучают, как вся наша жизнь через детей нас разлучает. Но делаемся от этого друг к другу еще испуганней, еще нежней… и потихоньку друг друга в свои жизни впускаем. И я же помню, какое это было для меня острое чувство недозволенного! Как это было для него, я не знаю. Для мужчины, я думаю, такое чувство может возникнуть, только если женщина в первый раз перед ним раздевается. А для меня и того было достаточно, что я ему говорила про Леночку, что она учится в предпоследнем классе, про трех репетиторов, про двух ее мальчиков… Когда отец Виталий придет, надо будет про это тоже сказать: какое было это извращенное удовольствие — срывать разлучающие нас завесы. Удовольствие от бесстыдства. И за счет чего? За счет собственного ребенка! Я очень это помню. Только тогда я думала: вот, мы сделались еще на полшажочка ближе, а вот и еще. Особенно когда он о двух своих мальчишках рассказывал, что он их обоих отдал в экономический колледж, но старший, Максим, так серьезно увлекается компьютерами, что его, судя по всему, придется перепрофилировать. А у меня вместе с кровью ухало в голове: он доверил! мне! имя старшего сына! Вот из таких нюансов для меня все тогда и состояло. А потом приходил мой черед: «О, Лена у меня с характером! Мама, всё будет по-моёму! Это она мне в три года говорила, представляете?» — а чувство при этом было такое, что я наклонилась и подтягиваю при нем колготки. И ведь ужасаюсь себе, и за этот ужас еще пытаюсь ухватиться… но хочу, снова хочу ужасаться!
Но чем он, конечно, меня тогда потрясал, это терпением. Мы с ним вышли из ресторана, и он только коснулся рукой моей щеки. И как бы между прочим сказал, что приглашает меня с пятого по девятое мая в Прагу, я еще подумала, что в ресторан, а он сказал, нет, в город, в столицу Чехии, и если вдруг у меня получится выкроить эти несколько дней, то он завтра подошлет мне на работу курьера за моим заграничным паспортом. И опять (до чего же он был тонкий психолог): не отвечайте сразу, подумайте, я вам завтра позвоню. А я на это только пожала плечами. Понимаете, пока Костя был рядом, мне казалось, что я смогу без него, на пределе возможностей, но смогу, и, значит, я должна, пока не поздно, это разрушить.
В каждый период времени у каждого человека — свои герои. На тот момент я все еще очень лично переживала гибель принцессы Дианы. Она случилась в ночь на тридцать первое августа девяносто седьмого года. И потом пошел весь этот поток публикаций о ней, брошюр, а потом и книг. И я все, что могла о ней, читала. Я ни минуты не сомневалась, что ее убила английская монархия за то, что она носила ребенка от отца-араба, что у наследных принцев Уильяма и Чарльза не должен был быть такой низко-рожденный брат. Хотя когда я думаю об этом сейчас, после событий 11 сентября, потрясших Америку да и весь цивилизованный мир, и в перспективе всего дальнейшего противостояния, как теперь принято говорить, сытого Севера и голодного Юга, — я думаю, что со стороны английской короны это была роковая недальновидность. Что этот ребенок был предназначен на роль миротворца. Ведь сколько добрых, богоугодных дел успела сделать за свою короткую жизнь его мать, и это при тех переживаниях и комплексах нелюбимой жены, которые ей пришлось испытать на протяжении всей своей личной жизни. Я до сих пор не могу об этом говорить спокойно. А вела я ведь совсем к другому. Я хотела сказать, что в тот отрезок времени немного стала себя с нею отождествлять. Тут отчасти виноват и тип внешности, особенно у меня была похожа с ней фигура и эта ее застенчивость и угловатость жестов — мне это и Валерка говорил, и на работе многие тоже, — и вот теперь отношения с Костей, которые начали возникать, они мне казались вариацией на ту же тему прекрасной и страшной сказки. У меня перед глазами так и стояли ее последние счастливые фотоснимки с Доди Альфайедом, подсмотренные папарацци, и самые последние в ее жизни кадры, за несколько минут до катастрофы снятые камерой скрытого наблюдения, когда она с Доди вдвоем выходит с заднего входа отеля «Ритц» — через вертушку, которая ее захватывает, заворачивает, как смерч.

![Дерево бодхі. Повернення придурків [Романи] - Яценко Петро (бесплатные онлайн книги читаем полные версии .txt) 📗](/uploads/posts/books/51649/51649.jpg)