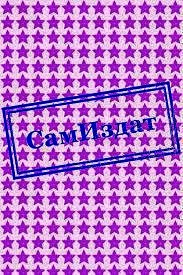Трактат о лущении фасоли - Мысливский Веслав (книги бесплатно без txt, fb2) 📗
Мне-то, что касается пирожных, вспоминать было особенно нечего. Во всяком случае, я не мог бы сказать, какое было самым вкусным. И в ответ на все эти ее лучшие пирожные сказал, что моя бабушка пекла на Пасху «бабки», вкус которых я чувствую до сих пор. Хотя не знаю, были ли они в самом деле лучшими. Но это не имеет никакого значения. Иногда я покупаю себе на Пасху «бабку» то в одной кондитерской, то в другой, и сравниваю, но до сих пор не встретил такую, которая на вкус была, как бабушкина. Не говоря уже о том, что «бабки» из кондитерской через два-три дня черствеют. А «бабки», которые пекла моя бабушка, могли лежать месяцами, и, когда вы такую «бабку» резали, нож был весь в масле. И они были высокие. Вы когда-нибудь ели такую «бабку»? Очень жаль, это необыкновенно вкусно. Приезжайте на Пасху или около того. Сразу после или чуть позже. «Бабки» относили на чердак, там они хранились. Ели их по кусочку в день, не больше. Попробуете.
Когда я был женат, жена решила найти рецепт такой «бабки», потому что уже слышать не могла перед каждой Пасхой это мое: а вот бабушка... и так далее. Написала известному кондитеру. Он прислал рецепт, жена испекла, но это было не то. Бабушка пекла обычно десятка полтора таких «бабок». Теста ставила полную кадку. Где-то до середины формы накладывала, а поднимались они так, что выливались за края. Напоминали грибы. Вечером мы съедали по кусочку. А еще бабушка делила так, что хватало надолго. Поэтому казалось, что Пасха все длится и длится.
Нет, моя собеседница никогда не ела пасхальную «бабку». Попросила рассказать ей. Да, но как рассказать о «бабке»? Можно описать, как она выглядела: конус, потому что пекли в таких формах, сверху шире, снизу уже, но что из этого следует? Вкус важнее формы. А как описать вкус? Ну сами скажите. Любой вкус. Вот, к примеру, что-то на вкус сладкое. Что это значит — сладкое? У сладости миллионы оттенков. Столько же, сколько людей. Один кладет в кофе ложечку сахара, и ему уже сладко, а другому нужно две или три. Во время войны не было сахара, варили сироп из сахарной свеклы: если бы вы попробовали, он показался бы вам отвратительным, но всем было сладко, как до войны. Да, сладко — у каждого свое. Сладко сегодня, сладко когда-то, сладко там, сладко здесь — все это разные оттенки сладости.
Поэтому я рассказал ей, что «бабку» пекут из муки, яиц, масла, сметаны — это все, что я знал, а остальное бабушка унесла с собой в могилу. Может, унесла всю тайну этих «бабок». Осталось лишь то, что они таяли во рту.
Женщина после моего рассказа погрустнела. Поэтому, чтобы ее утешить, я сказал, что все те пирожные, о которых она мне рассказывала, наверняка были самыми лучшими. И спросил, не хочет ли она еще одно. Я отпускаю ей этот грех. Она улыбнулась сквозь свою печаль и сказала: единственное, что сейчас не отказалась бы попробовать, — кусочек той пасхальной «бабки». В таком случае, может быть, вина? Она охотно согласилась. И когда мы пили это вино, то и дело поднося бокалы ко рту, она как-то так на меня взглянула, словно вдруг вспомнила. И я тоже уже не сомневался, что это она. Дело не в том, что там-то, тогда-то, в поезде, в парке на скамейке или где-то еще. В то мгновение это не имело никакого значения.
Вы, наверное, думаете, что человеку сперва нужно кого-то встретить, чтобы он потом мог его вспомнить. А вы никогда не думали, что бывает наоборот? То есть вы считаете, что все зависит от памяти, верно? Сначала что-то должно случиться, чтобы потом, пускай даже много лет спустя, память могла это воскресить? Но мне кажется, есть вещи, в которые памяти лучше не вторгаться. Я согласен с вами, в тех случаях, о которых вы говорите, — да. Однако не всегда нам требуется помощь памяти. Иной раз гораздо нужнее забвение. Тяжело было бы жить в постоянном рабстве у памяти. Поэтому иногда приходится обманывать ее, путать следы, бежать прочь. Ведь на самом деле нам необязательно помнить даже о том, что мы существуем на этом свете. Нет, я с вами не согласен, не все должно согласоваться с памятью.
Поэтому, когда она вошла в кафе, оглядываясь в поисках свободного столика, я был уверен, что, если бы какой-то столик как раз освободился, она все равно подошла бы к моему и спросила:
— Вы позволите сесть за ваш столик? Всё занято.
— Пожалуйста, — сказал бы я, как сказал на самом деле.
А продолжение вы знаете. Я ничего не скрываю. Что мне было скрывать? Я не делал женщин счастливыми. И плохо в них разбираюсь. Впрочем, вы можете прочитать любую книгу, посмотреть любой фильм, и это будет то же самое. Всегда одно и то же. Нет таких слов, чтобы получилось нечто иное. Мне кажется, все зависит от слов. Какие слова, такие вещи, события, мысли, представления, сны и всё, даже на самом дне человека. Бесцветные слова — бесцветный человек, бесцветный мир, даже Бог бесцветный.
Если я скажу вам, что любил ее, даже это ничего вам не скажет, потому что мне самому это ничего не говорит. Сегодня я знаю столько же, сколько знал тогда. Точнее было бы сказать, что я столько же не знаю, сколько не знал тогда. Ведь что такое любовь? Ну пожалуйста, скажите мне, если знаете. И почему, если я любил ее, как никого другого, мы не сумели быть вместе? Я любил... впрочем, сказать это — все равно что ничего не сказать. Иногда мне казалось, что она подарила мне жизнь, словно это не она из моего ребра, а я из ее, не так, как в Писании, а наоборот. Умирая, я буду видеть, как она входит в это кафе, оглядывается в поисках свободного столика, потом подходит и спрашивает:
— Вы позволите?..
— Пожалуйста.
Она садится, но нам уже не хочется разговаривать. Даже об этих пирожных не хочется. Не потому, что мы уже все друг другу сказали, а потому, что мы почти ничего не сказали.
Нужна вечность, чтобы все друг другу сказать, а не это короткое мгновение жизни. Не знаю, может, мы уже боимся слов, даже таких, о пирожных. Может, для нас уже нет слов. А без слов и про пирожные ничего непонятно, тем более — какое самое лучшее.
Нет, нам не было хорошо друг с другом, как вы могли бы подумать. Но еще хуже было друг без друга. Мы расставались, сходились, снова расставались, снова сходились. И каждый раз клялись друг другу, что больше не расстанемся. И снова все начиналось сначала. А когда мы снова сходились, то каждый раз как будто впервые, как будто в том кафе.
Не знаю, рассказывал ли я вам... однажды случилось так, что я снова поехал в санаторий. После прогулки зашел в это кафе. Сижу, пью кофе, листаю газету. В какой-то момент поднимаю глаза и вижу: входит она. А мы уже расстались навсегда. Там были свободные столики, но она подошла ко мне и спросила:
— Разрешите?..
— Пожалуйста.
— О, плохо дело с твоими руками.
— А как обстоят дела с твоим сердцем?
И мы снова решили никогда больше не расставаться. Но вскоре расстались. Нет, ну скажите мне: это была любовь? Для меня любовь — это жажда бытия. А нам обоим бытие причиняло боль. И оба мы не были молоды. Она, правда, моложе меня на несколько лет, но уже давно не молода. Мне не раз приходилось ее просить, чтобы она не стеснялась своего тела. Она всегда со страхом проверяла, смотрю ли я на нее, когда она раздевается. И всегда:
— Погаси свет.
— Почему?
— Погаси, пожалуйста.
— Но почему?
— Ты не понимаешь?
Я не понимал. Она, должно быть, не подозревала, что когда я смотрел, как она раздевается, то чувствовал себя так, словно вся ее боль, ее страдания, ее уходящие годы делают меня богаче. Я тоже многое пережил, но это было для меня не так важно, как то, что оставило на ней клеймо. Нет, дело не в том, что я ей сострадал. Впрочем, разве любовь нуждается в сострадании? Речь о том, что я ощущал ее существование как свое. Вы спрашиваете, что это означает? Это как будто вы хотите взвалить на себя все бремя чьего-то существования. Словно хотите этого человека полностью освободить от необходимости существовать. Словно и умереть хотите за него, чтобы ему не пришлось переживать свою смерть. А это нечто другое, не сострадание, как его обычно понимают. От одной этой, пускай даже иллюзорной, возможности я чувствовал, что мне снова хочется жить. Вы говорите, это невозможно. Может, и невозможно. Но тогда — что есть мера любви? Если мы под этим ничего не значащим словом будем понимать одно и то же? Как понять, что мы ее испытываем? По вожделению тела? Тело смертно, и это случается гораздо, гораздо раньше, чем на самом деле приходит смерть.