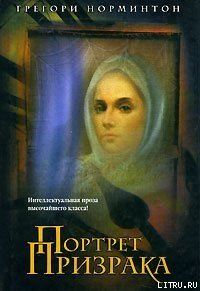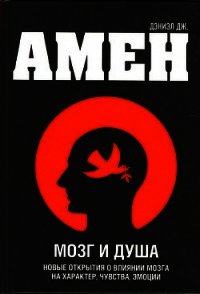Чудеса и диковины - Норминтон Грегори (список книг TXT) 📗
17. Маринованная голова
Из пепла вылетел потрепанный феникс. Это была вовсе не золотая птица из легенд, а деревенский петух со злобными глазками-бусинками и дурным нравом – как раз такой, какой и должна быть опаленная и едва не зажарившаяся птица. Пепел (чтобы добить эту мрачную метафору) остался не от мангеймова костра. Я говорю про обугленные останки крестьянских хибар, про те черные головешки, в которых иной раз угадывались очертания соломенной крыши, беленой стены или сжатого кулака – пока ветер не разнесет их в пыль. Подлинным фениксом была людская ярость. После кризиса с бандой Мангейма и его дорогостоящего разрешения, после двадцати лет разорения и полной несостоятельности как властителя отшельника-герцога терпение его подданных себя исчерпало. Сборщик налогов, который выискивал на руинах Крантора хотя бы какие-то крохи, чтобы пополнить скудеющие закрома господина, был крепко бит сыновьями кузнеца и отправлен обратно в замок. Вести о неповиновении – о пинке под герцогский зад – разлетелись, как белые хлопья первого снега. Морозный ветер превратил камни в острые терки; у меня в мочевом пузыре образовались сосульки, которые ощутимо кололись, когда я ходил по малой нужде. Я был слишком занят собственными проблемами, чтобы задумываться о том, чем питались крестьяне и как они умудрялись пить снег и при этом не отмораживать себе внутренности. Над властью Альбрехта нависла угроза. Крестьянам, страдавшим от голода и холода, было не до смирения. Они рассуждали примерно так: даже если они погибнут, подняв бунт против герцога, зато их согреет пламя мятежа и горячая кровь, пролитая в борьбе за свое право жить. Но пока сохранялась надежда, что герцог еще может опомниться. Настоящими врагами Фельсенгрюнде были чужаки: английский чародей, саксонский людоед и печально знаменитый карлик, с которого и начались все несчастья. В Шпитцендорфе, где собралась оголодавшая армия, крестьяне потребовали встречи с Альбрехтом: они хотели поведать правителю свои печали и испросить долю городских запасов зерна. Альбрехт испугался. Он не доверял толпе и решил отправить в Шпитцендорф парламентера, человека благородного, с мягкими манерами, который своим кротким видом и грустными глазами вытянул бы яд из языков подстрекателей.
Выполнить эту миссию согласился Мартин Грюненфельдер; он также согласился на предложение начальника стражи выделить ему охрану в пути. Благодаря Максимилиану фон Винкельбаху, толпа не тронула старика. Ее вожаки не произнесли ни единого браного слова; они с почтением приняли предложение Грюненфельдера уменьшить им ренту, гарантировали ему безопасный проезд обратно в замок и выказали искреннее огорчение, когда его лошадь поскользнулась на льду, придавив своего почтенного седока, так что его изукрашенный меч – по какой-то ужасной случайности – пронзил несчастному бок.
Последнее слово доверили обергофмейстеру. Я же тем временем мучился воспоминаниями о похоронах прошлого герцога, о своих безграничных надеждах. Поминки по Мартину Грюненфельдеру были менее приятными. Герцог плакал, не стыдясь слез, и это при том, что у гроба отца он не пролил ни единой слезинки; тянулись молитвы; мне приходилось переступать с ноги на ногу, чтобы разогнать кровь.
Та зима вообще оказалась щедра на несчастные случаи. На могиле Грюненфельдера еще не сгнили бумажные цветы, а граф Винкельбах уже скорбел о безвременно почившей супруге, которая свернула шею, поскользнувшись на обледеневших ступенях покоев герцогини. Элизабета тоже оплакивала графиню – хотя они и не были особо дружны. Она много времени проводила в маленькой часовне рядом с безутешным обергофмейстером. Герцог упрекал жену за слишком пристальное внимание к потере вдовца. Это я узнал не от Бреннера, а услышал собственными ушами в кабинете герцога.
Для меня стало большим сюрпризом обнаружить пажа у своих дверей. Я прочел срочное послание и, разумеется, внял отчаянной мольбе. Теперь, выслушивая жалобы герцога у него в кабинете, я чувствовал, как мое сердце привычно замирает в груди.
– Они собрались меня сместить и уже приступили к решительным действиям, – сказал Альбрехт. – Он устраняют препятствия. Сначала – Грюненфельдер, потом – жена Винкельбаха. Обрати внимание на амбиции Морица. Я слишком много ему позволил.
– Позволили что, милорд?
Герцог задыхался от ярости; его руки шарили по столу – по бумагам и книгам, запачканным чернилами, – точно две рыбы, что бьются на илистом дне пересохшего пруда. Он нашел склянку, похожую на ту, что висела у него на шее, и, вытащив пробку черными зубами, сделал несколько судорожных глотков.
– Это ваш эликсир?
– Aqua Melissae, настой мелиссы. Лекарство от ревматизма, его готовят пражские кармелитки. Ох! – Герцог сморщился и стукнул себя по ноге. Когда приступ прошел, он вновь приложился к открытой фиале. – Может быть, меня травят?
– Травят? Кто?
– Рог единорога из Арканы… размолоть и принять с кипяченым вином… защищает от зелий, которые дает мне жена.
Я обдумывал, как лучше ответить. Знал ли Нотт о нашей сегодняшней встрече? Мог ли я говорить свободно?
– Милорд, а вы уверены, что ваши лекарства не ядовиты? Альбрехт удивился моему нахальству.
– Да как же они ядовиты, если они утоляют боль? Красный эликсир размягчает границу между миром и моим телом. Если я не принимаю его слишком долго – а так случается, когда истощаются запасы, – у меня голова только что не взрывается, а в желудке поселяется адское пламя.
– Возможно, именно так Нотт и удерживает власть над вами?
Альбрехт не хотел это признать.
– Ты же ни разу не видел, как он общается с духами. Не слышал их голоса, как слышал я, не учил их языка. Да, я подозреваю, что Нотт меня обкрадывает. Пропадают вещи. Но это все мелочи, несущественные потери – по сравнению с духовным даром, который он мне открывает.
Меня уже начала утомлять эта чушь.
– Ваша светлость, – спросил я, – зачем вы меня позвали?
Вопрос застал Альбрехта врасплох. Он тяжело опустился в кресло. Я слышал его судорожное дыхание. В его глотке что-то щелкало, булькало и клокотало.
– Томмазо… Я все думаю про «Страшный Суд». Гравюру Бонасоне по кисти Микеланджело. Вот никак не идет у меня из головы…
– Что именно, милорд?
– Тот отчаявшийся человек с гримасой на лице. Он мне снится. Он со мной разговаривает, во сне. Он знает то, что знают кальвинисты, которых я выгнал из Винтерталя. Мы уже все потеряли, и что бы мы ни делали, потерянного не воротишь. Ничто не спасет мой народ. Ничто не спасет нас от вечных мук.
– Ваша светлость, это Предопределение. Вы не должны в это верить.
– Не должен? Или не буду?
– Это ложная доктрина, которая разрушает волю.
– Я знаю, Томмазо, ты считаешь, что человек – хозяин своей судьбы. Из всех моих подданных ты усерднее всех строил свою жизнь. – В темноте я не мог разглядеть выражение лица патрона, не мог определить его настроения из-за жирные наростов: бугров на шее и челюстях, толстых щек и многочисленных складок. – Но разве не случай свел нас тогда в таверне? И потом, годы спустя, Якоб Шнойбер раскрыл мне подробности твоего пребывания в Праге… разве это была твоя воля? И все-таки ты продолжаешь считать, что ты сам творишь свою судьбу.
Я не знал, что ответить на эту тираду, и герцог отпустил меня восвояси. Похоже, я его разочаровал; быть может, он ждал от меня слов ободрения, ждал, что я разгоню его мрачные мысли своими радужными фантазиями. После этого меня еще дважды вызывали к нему в кабинет; дважды я слушал про его кошмары и дважды не смог их развеять. Может быть, он пытался вернуть оживление и невинность былых времен? Но я был уже слишком стар и слишком беден идеями, так что он так и остался творением моего английского соперника.
Но и Джонатан Нотт тоже иссякал. Для того чтобы отвлечь герцога от своих неудачных попыток превращения обычных металлов в золото в количестве больше щепотки, алхимику приходилось выдумывать новые развлечения. (Его союзник Якоб Шнойбер опять где-то скитался в поисках новых монстров.) Пусть хоть удавится со своими придумками, сказал я себе. Я бы не возражал против его предложения искать в земле клады, если бы он не привлек Адольфа Бреннера для изготовления лозоходческой рамки.