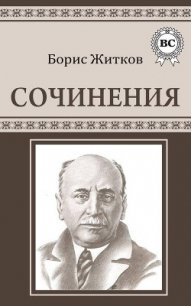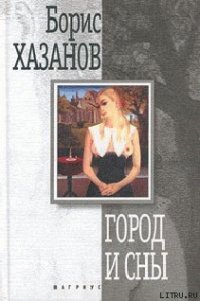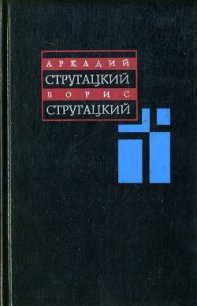Портрет незнакомца. Сочинения - Вахтин Борис Борисович (лучшие книги онлайн .txt) 📗
Наша лодка шла быстро, мотор тряс ее, как осиновый лист, лодочник был пьян и медлителен.
Резиновый шланг часто выскакивал из-под гвоздя в борту, и вода, охладив мотор, текла из шланга в лодку на сапог лодочника, и тогда лодочник медленно наклонялся, ловил скользкий шланг и неловкими пальцами засовывал под гвоздь.
Не было глубины у этого озера, а только ровная поверхность, под которой кое-где полоскались пряди водорослей.
Я вел лодку, и это было очень просто, а лодочник уговаривал своего дружка сесть. Но тот не сел и даже стал раскачивать лодку, вызывающе глядя на меня.
Берег не приближался. В пустых окнах монастырской колокольни на острове мелькнуло закатное солнце и исчезло.
Он глядел на меня, раскачивая лодку, и через борт перелилась вода.
— Сядь, — сказал я.
— Не сяду, — сказал он. Лодка сильно черпнула.
Я ударил его ногой, он вдруг упал в воду и скрылся из виду, а лодка шла быстро.
— Выплывет, — сказал лодочник, однако отрезвел немного.
Но я повернул лодку, а потом заглушил мотор, сорвав кожу с пальца, потому что не знал как.
Что-то мелькнуло под поверхностью воды, и я свалился в озеро, потому что прыгать не умел, и схватился за одежду и потащил к лодке, а там лодочник взял его за руку и подбородок, и мы вволокли его в лодку.
— Он не умеет плавать, — сказал мне лодочник, протягивая бутылку.
Мокрый, тот полулежал на дне лодки, и на него полилась вода из выскочившего шланга, потому что мы снова плыли. И он смотрел, как я пью из горлышка.
— Дай, — сказал он, протягивая руку.
— Что вы невеселые, ребята? — спросил лодочник, засовывая шланг под гвоздь.
Я дал лежащему бутылку, он хлебнул из горлышка, передал ее лодочнику и бросился на меня, валясь через мотор.
Ногой я отбросил его назад.
Мотор заглох.
— Ты дерьмо, — сказал отброшенный. — Приехал сюда, а кому ты нужен, турист, интеллигент, падло.
Берег стал наконец все-таки ближе.
— Широка страна моя родная, — сказал я ему.
— Будешь драться — выброшу из лодки, — сказал ему лодочник.
Тот ругался, не переставая, все время, пока мы вылезали из лодки и шли по мосткам затопляемой улицы среди тявканья шавок и вони мокрых дров.
Поздно вечером мы пили спирт у лодочника под иконами, и на клеенку падали куски хлеба и обручальные кольца зеленого лука, а жена лодочника, мягкая и теплая, будто фланелевая, ни за что не пила, а только украшала мужское общество.
— Ладно, — сказал мне приятель лодочника миролюбиво. — Какого хрена ты вот ездишь?
— Хочу понять, — сказал я.
— Что — понять? — спросил он.
— Все понять, — сказал я.
— Не понимаю, — сказал он.
— А я понимаю, — сказал лодочник. — Широка страна моя родная, верно?
— Верно, — сказал я. — Я не был на войне, я не был в концлагере, а в работе нет личной воли, и потому я ничего не понимаю, хотя на войне был мой дядя, в концлагере был мой отец, а я работаю, как эфиоп.
— Ладно, — сказал приятель лодочника. — Езди, хрен с тобой.
Так мне освободили место, чтобы поставить ногу на земле моей страны.
Ножницы в море
Море было спокойнее всего на свете — спокойнее облаков, спокойнее берега, спокойнее любого спящего; только небо было таким же спокойным, как море, да еще, может быть, лицо моего шестилетнего сына, сидевшего на носу лодки, а я греб, любуясь ими тремя, и мы уплывали в море, потому что нам хотелось.
— Людей совсем не видно, — сказал сын. — Мы уже в море?
— Да, — сказал я.
Я перестал грести. Лодка замерла, качаясь только от нашего дыхания. Я задумался, вспоминая синюю стрекозу, которая неподвижно сидела на листе осоки у того пруда, в том детстве, когда мне было шесть лет.
— Если бы нашей семье нужен был герб, — сказал я, — я нарисовал бы синюю стрекозу на зеленом листе.
— А зачем нам герб? — спросил сын.
— Просто так.
Сыну повезло — у него была прекрасная мать, женственная до кончиков ресниц и легко понимающая то, что совершенно непонятно, и мне мой ум даже в его лучших проявлениях всегда казался примитивным инструментом, вроде ножниц, рядом с ее качествами, которые обнаруживались не в словах, отнюдь, а в поступках, потому что слова говорить у нее получалось плохо и она больше молчала, вроде как божья матерь, которая предоставила говорить сыну, а сама молчала и ничего не сказала даже тогда, когда все кончилось. Сыну повезло, а мне не повезло, потому что вместо жены у меня было что-то необычное, а необычное лучше иметь чем угодно, только вовсе не женой, поскольку жена должна быть с маленькой буквы, как мне кажется, иначе ножницы звенят, как в парикмахерской, и стригут цветы.
Я посмотрел на сына — он сидел очень задумчивый, погруженный в себя, опустив голову.
— Сын, — позвал я, и он медленно поднял голову, и глаза его были влажными и блестящими — может быть, потому, что в них отражалась такая же поверхность моря, а может быть, от слез.
— Что? — спросил он бровями.
— О чем ты задумался? — спросил я.
Он посмотрел на меня грустно, губы его дрогнули, и он сказал:
— У меня к тебе очень большая просьба.
— Какая? — спросил я, готовый к любым подвигам, лишь бы он не погружался вот так, неизвестно куда.
— Пожалуйста, — сказал он, — никогда не спрашивай меня, о чем я думаю.
— Хорошо, — сказал я мгновенно, потому что все-таки голова у меня работает иногда неплохо.
Потом мы шли с ним по берегу и навстречу нам попался одноногий человек в трусах, который прыгал к морю, опираясь на костыль, и сын мой взял меня за руку, но я уже ни о чем не спросил его, да и не о чем было спрашивать.
Дома он с восторгом рассказал матери, что мы очень хорошо покатались на лодке и что людей на берегу совсем не было видно, так далеко мы заплыли.
Ее личное дело
Когда девушке восемнадцать, а она любит смертной любовью, не подозревая повторения, и растет, как на дрожжах, благодаря этой страсти, так что достигает возраста вплоть до девы Марии и Суламифи, вплоть до Евы и даже Лилит, и происходит это с ней в нашу эпоху невиданного размножения личности, успехов с бомбами и горизонтов, сияющих над концлагерями, тогда, бывает, она пугается за своего любимого материнским чувством, видя его враждебно от всего и желая встать между ним и прочими, чтобы защитить грудью и предохранить. И она не знает, что его такого и вовсе нет на свете, а есть только плод ее любви, но это, как говорится, их личное дело.
Они ехали в поезде в одном купе со мной, и поезд болтало от возросших скоростей и ударяло боками о деревушки и города, неизменные по сути, вот сколько лет я их вижу. Их разговор я услышал и записал, как и прочее все, потому что это уже мое дело — писать или не писать.
Он лежал на нижней полке, а она сидела у него в ногах прямо, как на уроке, и вид они имели разный: он — словно вернулся из трудной войны, хотя на земле был давным-давно мир, а она — хоть сейчас на бал, и он был спортсменом в молодости, а она еще не была. Я на верхней полке будто бы спал, а мой сосед спал на самом деле и храпел за двоих басом на вдохе и тенором на выдохе, так что они говорили между собой без оглядки.
Он говорил снисходительно-капризно:
— Вот ты поехала. Со мной. А потом что будет? Знаешь?
— Знаю, — отвечала девушка.
— Что?
— Ты меня разлюбишь, и я умру, — отвечала девушка.
— Фу, фу, фу, — говорил он. — Зачем такие страсти.
— Можно, я лягу с тобой? — спросила девушка.
— Тут люди.
— Пусть. Они спят и они пьяные.
Мне-таки удалось заснуть, и утром я был очень доволен этой своей тактичностью. Девушка уже встала и была очень свежая, и все на ней было, как надо: и прическа, и ресницы, и губы, и она поила его чаем и кормила бутербродами с холодным мясом. Тип, который храпел, оказался моряком, и мы пошли с ним завтракать в вагон-ресторан, и, уходя, я сказал, ни к кому из них двоих не обращаясь: