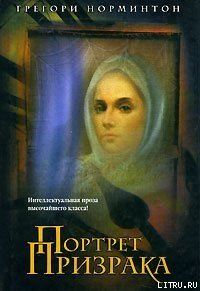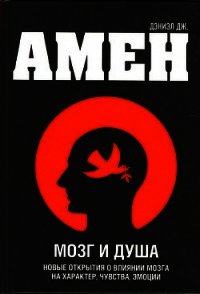Чудеса и диковины - Норминтон Грегори (список книг TXT) 📗
– О чем вы?
– Я лишь размышляю вслух. Кто знает, как именно выглядит содранная с человека кожа? Мне говорили, что Мике-ланджело наделил своего Варфоломея, который в Сикстинской капелле, собственными чертами. Ты слышал про Мике-ланджело?
– Да, конечно,
– Разумеется, слышал, – кивнул он, и под его завитыми усами родилась улыбка. – В наши дни недостаточно просто поверхностно представлять анатомию человеческого тела. Художник должен увидеть детали во плоти. – Священник, который неподалеку ворочал невежественный глобус своего необъятного пуза, с подозрением взглянул на нас. – Я знал человека, который распял своего слугу – не насмерть, прошу заметить, – чтобы наглядно увидеть, как выглядит тело в распятой позе. Может, наш скульптор использовал кожу убийцы? Или вора? Это ведь тоже бессмертие в каком-то смысле.
– Я бы не хотел такого бессмертия… Старик, кажется, обдумывал мой ответ.
– Да, – согласился он. – Я тоже. – Невесело кивнув головой, он ушел. Я проводил взглядом его черный плащ и шапочку, заискивающе улыбнулся праздношатающемуся священнику (понадеявшись на благословение) и покинул Собор, чтобы вернуться к своему промыслу на площади.
В конце дня, когда усталые лоточники разобрали свои палатки, а фокусники затянули узлы на глотках мешков с чудесами, я побрел домой, собираясь поужинать чечевицей с овсяной кашей. Обычно наши вечери представляли собой невеселое зрелище и проходили в мрачном, вязком молчании. Мы с отцом редко смеялись. Хотя помню один случай: я принес отцу обед на Корсо ди Порта Романа, где он работал (обычные хлеб, ветчина да сырая луковица, которую отец съедал одним махом, как яблоко: очень помогает избегать новых знакомств), и вдруг у меня за спиной неожиданно, как раскат грома, началась какая-та суматоха. Рабочие побросали молотки и поспешили к краю тротуара.
– Что там? – крикнул я. – Я не вижу!
Загорелые спины загораживали место происшествия. Я ышал фырканье, ослиный рев и пронзительный визг. Отец подхватил меня и к моему удовольствию (и немалой боли, ибо я весил к тому времени прилично) водрузил к себе на плечи, откуда мне был видна середина этого поля колышущихся, пыльных голов.
Если бы мне рассказали об этом, я бы ни в жизнь не поверил. Монах-цистерцианец, ехавший на осле в аббатство Чиа-равалле, оказался зажат между своим транспортным средством и мощным возбужденным конем. Осел, жертва насилия, протестовал во всю глотку. Монах тоже кричал благим матом, зажатый между жеребцом и его избранником. Но никакие вопли, никакие мольбы не могли удержать коня в его напряженном, страстно-пучеглазом движении к цели.
– Ирод! – ревел осел.
– Помогите! – пищал монах. А толпа пребывала в восторге. Мужчины смеялись, как плохие актеры, хватаясь за живот и хлопая друг друга по ляжкам; женщины складывались пополам, трясли кулаками и задыхались. На людей напало вакхическое безумие, и я не был исключением. За все детство я не смеялся так долго и хорошо – или так нехорошо. Старый цистерцианец сломал позвоночник. Он умирал целых три дня.
По воскресеньям, после мессы, отец хотел одного: только спать. Зверская усталость придавливала его голову к подушке, и в то же мгновение он с тихим вздохом облегчения проваливался в сон. Оставшись один, я пробирался в сад Гуасталла, где гуляли нарочито влюбленные молодожены и благородные девицы в сопровождении дуэний листали свои тетради. Увы, я не мог вернуться к спокойной созерцательности детства, когда с таким напряженным вниманием я изучал живую природу. Возможно, меня отвлекало желание – голод, утолить который не могли бы и горы дешевого хлеба? Мои глаза потеряли покой: они загорались огнем всякий раз, когда мимо проходили девочки. Брюнетки, блондинки – я впивался взглядом во все, что принадлежало к прекрасному полу. Я принялся коллекционировать мимолетные взгляды, мысленно зарисовывая беззаботные жесты, поворот головы при разговоре – все виды осознанного и случайного колдовства. Сам я был просто сторонним наблюдателем. Единственное место, где я более-менее соприкасался с настоящим сексом – прачечные у канала. Прачки, стоявшие на коленях, наклонялись вперед, словно мокрые магометане, и колыхали тяжелыми грудями. Я любовался их крепкими, почти мужскими руками и сильными пальцами, погруженными в груды мокрого белья. Когда я горбился рядом с ними, меня приветствовали радушно, как необычное, достойное жалости дитя.
– Ну, как сегодня наш гномик?
– Где твоя мама, бамбино?
– Ты за ушами помыл?
Согласен, сложно представить, что здесь, под гулким навесом, я обрету настоящую воздыхательницу. Тем не менее так и случилось. Я ощущал на себе ее пристальный, изучающий взгляд: магнетическая сила, перед которой все мои остальные чувства меркли. Обычные нищенские способы избегать нежелательного внимания не помогали. Я кашлял и чесался; я тер брови и погружался в уничтожение упрямой и воображаемой грязи у себя на теле. «Пусть смотрит, – говорил я себе. – Наверное, ей просто интересно. Еще одна любопытная баба, охочая до карликов». Но каждую пятницу, когда я отправлялся стирать, она сдвигалась на шаг поближе к тому месту, где располагался я. Это была женщина старая, лет тридцать как минимум. Ее глаза были темными и ненасытными, ее рот… на самом деле я понятия не имею, как она выглядела, я был в ужасе, надо ли объяснять…
И вот в один прекрасный день она стирала уже бок о бок со мной. Случайно или преднамеренно, но ее черные кудри рассыпались по щеке, скрывая от остальных наши безмолвные и возбужденные взгляды. У меня в животе разразилась буря: гудели холмы, стонали камни, трещали деревья. Но внешне это выражалось лишь в том, что у меня подкосилось уродливое левое колено. По выразительным движениям ее бровей я понял, что мне следует идти с ней за полуразрушенную стену, в укромный закуток. Она встала и ушла раньше меня; по дороге ей пришлось несколько раз останавливаться – почесать ногу и заодно убедиться в моей решительности. Остальные, казалось, не замечали этой громогласной конспиративной деятельности, и я со всех ног поскакал к месту встречи. И вот мы стоим, лицо к пупку. Мне пришлось взгромоздиться на кучу кирпичей, чтобы дотянуться до ее тяжелых, внезапно обнажившихся грудей. Должно быть, я невольно отпрянул от этого неожиданного открытия, потому что она схватила меня за уши мокрыми руками и притянула к себе.
Она дала мне грудь, о мой высокоморальный читатель. Ничто в мире искусства не могло подготовить меня к поразительному увеличению ее соска; это напоминало ложный глаз на крыльях некоторых бабочек. Меня пугали плоские голубые вены, питавшие ее грудь. Между зубов у меня застрял жесткий черный волосок. Я помню яростный сосок, жесткий, как костяшка пальца, потрясение от своей эрекции – словно росток, пробивавшийся к свету. Потом она отстранилась и мурлыкнула:
– Ну ладно, хватит, милок. Не увлекайся. – Грудь, эта великолепная белая луна, исчезла, ее место заняла черная вдовья рубашка и сильные пальцы, которые затягивали шнуровку. Перед тем, как уйти, она глянула вниз и добавила: – А это возьми домой и поработай над ним как следует.
Я еще долго сидел (зевал, барабанил пальцами по бедрам, чего-то тихонько напевал), прежде чем смог успокоиться. Потом с екающим сердцем вернулся к обществу прачек.
– Браво, хрюшка!
– Вот это зрелище!
– Ой, ну оставьте его в покое, несчастного уродца.
Некоторые женщины подмигивали моей соблазнительнице и пихали локтем соседок. Но их насмешки меня не пугали. Я одним глазком заглянул в невообразимое будущее, где моя особенность – проклятие детского телосложения – может превратиться в выгоду, давая выход женской извращенности и принося мне нездоровое удовольствие.
Позднее, уже дома, я открыл для себя новый вид эгоистического развлечения, который так не любили ветхозаветные пророки, и занялся им с пылом новообращенного. Я извергал всполохи похоти через непристойные и анатомически невозможные рисунки. Иногда я возвышался над покоренными и покорными жертвами моей страсти, которые дрожали от наслаждения в моей приапической тени. Но чаще я представлял себя скалящимся гомункулусом, мелким, как мышь, и нырял в благоухающие глубины женских щелей. Вы, наверное, улыбнетесь, когда я скажу, что эти сладострастные изображения оказались наиболее оригинальными из всех моих работ. И прежде всего потому что я не был знаком с произведениями предшественников. Изуродованные нимфы Приматиччио, распутные черные мессы Ганса Бальдунга Грина (пышущие чрева и козлиные совокупления) тогда еще не попались мне на глаза. Также во мне не развилась – несмотря на унижение в замке Куэркия – высоколобая ненависть к слабому полу, которая настаивает на его, слабого пола, вредоносности и горько оплакивает Аристотеля, великого мыслителя, которого положила на обе лопатки пузатая Филлида. Да, я был зол; но не винил объект моего желания. К тому же отец тоже страдал. Я чувствовал, как в нем нарастает неудовлетворенность. Слышал, как он притопывал ногой за ужином, и старался не замечать его беспокойных глаз. В конце концов он вскакивал из-за стола, хватал пригоршню монет из шкатулки (ключ от которой всегда висел у него на шее) и, не сказав мне даже «до свидания», выбегал из дому. Скорчившись у окна, я видел его макушку (всю такую невинную), марширующую в сторону квартала Брера. Бедняга: я был для него словно камешек в ботинке, коротышка-компаньон, чье присутствие рядом лишало его эротических наслаждений. Поздно ночью он возвращался, топая по ступенькам, словно проверяя их на трухлявость. Потом он долго гремел ключом, прежде чем войти, бурча под нос, в нашу тесную каморку. Он грузно валился на кровать, вздыхая, как старый больной пес, и стараясь меня не будить, в то время как я вовсю притворялся спящим на своем неудобном ложе.