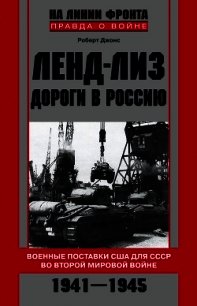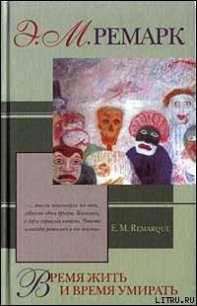Я бросаю оружие - Белов Роберт Петрович (электронные книги бесплатно .txt) 📗
И тут только мой мозг прожгла нестерпимая, будто капля расплавленного свинца, мысль:
я же хотел стрелять в отца!
Об этом не знает никто в мире и никогда не узнает, ничего, ровно ничего не произошло, как будто этого и вовсе не было,
но я же чуть не убил своего отца! —
самого первого из дорогих мне людей, самого любимого после Оксаны?!
А Оксану?!
Что же такое происходит в мире? Откуда берется такое жуткое в жизни и в человечьей душе?
Глаза мои опять застила кирпичная, красно-коричневая пыль. Паукообразные фигуры перепрыгивали через перекрещенные стропила. В голове начал нарастать какой-то оглушительный, какого не может быть на земле, шум...
Сквозь этот шум и грохот до моего сознания протискивались разорванные голоса:
— Витька, Виктор, да что с тобой?! Очнись, ну очнись же!
— Перебрал, видно, парень. Малец ведь совсем, его-то зачем поили?
— Кажному хочется — праздник.
— Э, ребятки, да это, похоже, шок! Они ведь сейчас тоже вроде контуженных. Да, поди, с голодухи.
— Мишку Кондрашова убили, что тут лежал до тебя. Вот он и...
— Пацан, и то уж, видно, сердце кровью изошлось. Будь же ты проклято — когда же настоящий-то конец?
— Зови старшую сестру! Понтапону ему или люминалу.
— Сдурел?!
— Ничего не сдурел! Самую малость можно.
— Спирту, дайте спирту глотнуть.
— Лихо дело...
— Чё ему спирт? Малец.
— Витька, Вить, держись. Мужик же!
Рот мне обожгло, я глотнул воздуху — обожгло и перехватило горло. Потом я почувствовал, что внутрь свежим потоком потекла вода, начало жечь в животе, и тут же наступила невероятная сонливость и слабость.
Сначала была сплошная чернота. Густая, как тушь, которую дал Маноде Игорь Максимович для всяких схем.
Потом появился свет. Я начал чувствовать себя.
Я почему-то оказался без оружия. Гитлер понял это, погнался за мной, я никак не мог от него ни оторваться, ни спрятаться. Я долго метался через перекрещенные балки и стропила, но он все же загнал меня к глухой стене, в самый угол.
Конец.
Что мне оставалось?
Я рванул ворот рубашки...
И вдруг будто какой-то голос откуда-то — тихий, ласковый, казалось, Оксанин — словно бы подсказал мне, что за спиною у меня слуховое окно.
Мига оказалось достаточно: я выскочил на крышу, на волю, на вольный воздух.
Но и это не было спасением. Подо мною — край. Гитлер, сука, скалится из темноты в окошко, через которое, мне казалось, я от него ушел.
Он поднял дулом вверх какой-то огромный, вроде духового, пистолет, как судья на старте во время одних соревнований — я до войны видел, — и стал, издевательски изгаляясь, отсчитывать, только почему-то, как бывает во сне или в сказке какой, сзаду наперед:
— Цеэн, нойн, ахт...
Да хрен тебе, курва! Радости от расправы со мной ты не получишь. Я сам!
Не успел он досчитать свое собачье: драй, цвай, айн — я услыхал спокойный и как бы благословляющий голос отца:
— ...три... два... Один!
Я выпнул с крыши откуда-то подвернувшуюся Володину гитару и, как с обрыва морячок в кино «Мы из Кронштадта», разом прыгнул, словно столбиком нырнул.
И — полетел.
Не вниз полетел, а оттолкнулся ногами от края крыши и будто поплыл от нее, легко так и вольно, свободнее, чем по воде.
Я летел все быстрее и быстрее, и ни капельки не боязно было мне и не удивительно, и я знать забыл о всяких рахитских Гитлерах, а было только радостно и радостно!
Откуда ни возьмись, рядом со мною очутились Манодя и Мамай, и это тоже нисколечко меня не удивило. Мы неслись так быстро и весело, что даже не чувствовали ни ветра в лицо, ни его свиста в ушах, а лишь улыбались друг другу и беззвучно что-то кричали. Будто каким-то воздушным, вернее безвоздушным, коридором неслись, а дышали вольготно и привольно, и словно он в то же время и наш госпитальный коридор, но совсем не больничный, а какой-то особенный.
Внизу, под нами, по обеим сторонам коридора на краях его бездонной светлой пропасти стояли люди, и которые приветственно махали нам навстречу и вслед, а которые лишь с завистью глазели.
Одна сторона была сплошь залита солнцем, но каким-то особенно ярким, как из вечной тьмы, как и не бывает на земле, и все там светилось само по себе, как фосфор. Там стояли и радовались нам хорошие люди. Я увидел и папку с мамкой своих, и Оксану, и Семядолю, и бритоголового Петровича, и Володю-студента, и почти всех ребят, школьных, заводских и госпитальных. И живой дядя Миша там же, и Сережка Миронов, и салютовал нам из маленького своего браунинга Шурка Рябов, которого я никогда не видел, даже и на фотокарточке, но сразу узнал. И это меня ничуть не удивило. А вторая сторона, вдоль которой мы все летели, была черным-черна, будто чернильная могильная прорва, из какой я недавно выкарабкался, и освещалась чужим светом, с противоположной стороны, чуть-чуть, как, наверное, освещает всякие предметы в полярной ночи северное сияние. Были там мои недруги, но было их мало. А главным образом какие-то, не знай какие, паразитские уродские рожи, которые, не поймешь, я видел когда-нибудь или не видел? Промелькнул внизу вроде бы шлем: Гитлер там опять? или Мамай?.. Но и это меня не испугало и не удивило — даже то, что Мамай будто и там, и опять же летит возле меня.
А потом будто мы все трое оказались в рубке-кабине какого-то особого корабля. Со стенами, обитыми матовой мягкой кожей, тисненной в ромбик и утыканной гвоздиками с крупными блестящими шляпками-кнопками, как двери в кабинете у отца или у дяди Вани Морозова. И уже не летели, а просто висели-плавали в воздухе, будто из книжки Жюль Верна — Жюля-Вруля «Из пушки на Луну», Николь, Барбикен и Мишель Ардан. Мишель... Разве что не играли в домино. И тут Мамай — а он будто наш командир, но это меня ни вот столечко не обозлило: он так он, пускай, — включил какой-то светящийся экран, как в «Аэлите» у марсиан, но не черезо всю стену и не прямоугольный, а небольшой и круглый, наподобие иллюминатора или репродуктора-тарелки, и на нем появилась — Оксана!
Она танцевала босиком и с распущенными волосами под какую-то не по-нашему красивую музыку, которую я все силился запомнить, но никак не мог. Она танцевала и улыбалась нам из экрана, а мы плавали возле нее, маленькой-маленькой, на одну ладошку возьмешь, и тоже оба вовсю улыбались. И было нам сладко-сладко...
Я проснулся оттого, что старался ухватить и запомнить ту прекрасную музыку, и от собственной улыбки. И еще оттого, что по лицу моему бегал солнечный лучик. Глянул — сперва не понял, где я есть.
В комнате никого не было. Белые простыни, белые салфетки на белых тумбочках, белые марлевые шторы на окнах. Мне показалось, что я лежу в больнице и сейчас ко мне войдет мама и принесет яблок, или даже апельсинов, или еще — шоколадную бомбу!
Было очень покойно и светло на душе, как будто я болел, а сейчас совсем выздоравливаю. Такое помнилось когда-то, еще до войны, когда я однажды лежал в больнице...
Как только подумал — до войны, я вспомнил все. Это — госпиталь, двадцатая палата. Не помню лишь, кто и как меня уложил.
Меня раздели?!
Пистолет!
Брюки мои лежали аккуратно сложенные шов ко шву, как учила их складывать мама. Так всегда складывал отутюженные брюки отец — еще до войны. Галифе надо укладывать немного по-другому...
Отец!.. Я вспомнил свои последние мысли о нем, но сейчас они уже не вызвали во мне ни боли, ни страха. Они будто отшелушивались, как высохшая короста на заживающей ране.
Но — пистолет?
Если его кто-нибудь нащупал...
Я поднялся с кровати и обшарил брюки.
На месте!
По счастью, видимо, пистолет не вывалился, а что штаны по-ненормальному тяжелые, никто не проверил, так как, наверное, раздевал меня Володя: интеллигент, он не позволит лазать по чужим карманам...
От сердца у меня отлегло окончательно.
Значит, никто никогда не узнает, никто не догадается, что я...