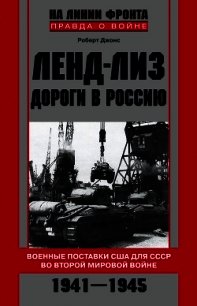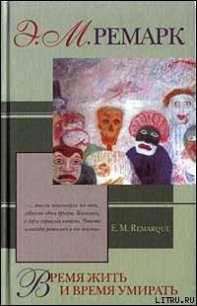Я бросаю оружие - Белов Роберт Петрович (электронные книги бесплатно .txt) 📗
Я прочитал, и мне тоже очень захотелось, чтобы все было так, как мечтали Оксана и Сережка. И про комиссара, и про славных бойцов Кузнецова. Правда, встретиться с папкой на фронте Сережке бы не удалось никак; он просто забыл, что отец был дома, так ему, видать, на самом деле хотелось повоевать рядышком, и так он жил мечтами о боях. Но в стихи мог попасть и действительно папка: помню, он как-то говорил, только как всегда, когда о своих фронтовых делах, мельком, что был такой случай, когда он после гибели командира взял на себя командование полком, который держал оборону на самом правом фланге армии, на стыке с соседней, куда немцы направили танковый клин.
Вот бы и мне когда-нибудь, — чтобы и про моих апостолов говорили: славные бойцы Кузнецова!..
Я снова взялся за дневник. Дальше там было написано:
«Мне кажется, что и сам В. К-в тоже такой же. Мало ли что, что он драчун и вообще дезорганизатор, как его называют, и что многие его ругают. На самом-то деле он, по-моему, совсем не такой. Мне кажется, что лозунг Сани Григорьева из „Двух капитанов“: „Бороться и искать. Найти и не сдаваться!“ прямо к нему подходит. И В. еще проявит себя тоже!».
Вот как она обо мне думает! А я девиз тот почти позабыл, хотя «Два капитана» читал, конечно...
На следующей странице в дневнике было:
«3 апреля 1945 года.
Сегодня, идя домой после школы, я случайно заметила, что меня нагоняют Витя К. и Герман Н. Чтобы не встретиться с ними обоими сразу, поняв, что они меня пока не заметили, я свернула в первую попавшуюся калитку и стала смотреть в щель. Стыдно и неправильно, конечно, так поступать, но что я должна была делать? Да и В. я совсем не встречала очень давно, кажется, чуть не полмесяца... Когда поравнялись, я услышала, что они о чем-то весело разговаривали и оба при этом грязно матерились.
Он, конечно, даже не мог знать, что я все слышу, но мне кажется, что, если он когда-нибудь сругается при мне, я ему такое никогда не смогу простить.
У Тамары с ее Володиком, кажется, все окончательно решено...».
Я покраснел, наверное, до шеи и до ушей. А когда стал читать дальше, сначала рассмеялся сам с собой, потому что так смешно было сказано про как раз Володю-студента, а потом покраснел пуще прежнего, от того, что было сказано обо мне, — не потому теперь, что так плохо и стыдно, а потому, что так невозможно хорошо.
Вот тут я и рассмеялся. Надо же! Я с трудом дотункал (ой, ой! — понял-уразумел), что Володик — это Володя-студент! Ладно-ладно, Володенька, я отныне тебя иначе как Володиком и звать не буду!
«Конечно, ей надо сдавать экзамены на аттестат зрелости, а ему хотя бы выписаться из госпиталя. Но они договорились, что непременно встретятся в Ленинграде: Володик тоже решил доканчивать свой институт, точнее университет. Конечно, надо еще, чтобы хотя бы к осени кончилась война и чтобы Володика демобилизовали, но папа пишет, что они готовы атаковать Берлин. А ихний поганый Берлин — не наша Москва, или Ленинград, или Сталинград, им-то за него не удержаться!
Правда, могут еще не разрешить родители, особенно Г. К. Но Т. мне сказала, что если только почувствует, что они будут против, она никого и спрашивать не станет. «Хватит с меня того, что Сережу убили!» — добавила она. (Сережа считался вовсе как бы ее женихом, особенно после того, как ушел на фронт, и Т. говорит, что был Витиным другом, но я его почти что не помню.) Я тут даже не побоялась ее спросить, почему же она так скоро начала дружить с Володиком. (Володик тоже как бы Витин товарищ, но намного старший, и его я вообще знаю лишь по рассказам самой Т. Почему-то я совсем не знаю Витиных настоящих друзей. Вечно он с этим отвратительным Г. Н.!) Т. будто и ни капельки не обиделась на мой вопрос, лишь сказала: «Много будешь знать — скоро состаришься. — Но добавила: — Понимаешь ты капсю, да и то не всю. Я Сережу никогда не забуду. И Володика я полюбила потому, что он тоже не хочет, чтобы я Сережу хоть когда-нибудь бы забыла».
И я на Т. ничуть не обиделась за ее холодно-надменный тон. Т. уже будто совсем как взрослая. Я не могу из-за этого и по-настоящему считать ее своей подругой. Если быть честной (дневник мой ведь никто никогда не прочтет!), то я стараюсь к ней всячески приладиться главным образом потому, что она Витина сестра. Ей-то, скорее всего, совсем неинтересно со мной. А с девочками моими очень часто неинтересно мне... Нет, они тоже кое-что понимают и записочки всякие пишут кое-кому кое-кто — даже обоим нашим учителям-фронтовикам М. Н. и 3. П., но все у них несерьезное какое-то, вроде игры. Они и влюбляются по семь раз в неделю, и почти что целым классом без ума от Абрикосова и Самойлова, от их улыбок и белых зубов... А Т., хотя и старше, но меня лучше понимает. Она ведь и сказала мне, чтобы я почаще приходила в гости. «Будто бы ты просто ко мне ходишь. И можешь его видеть, сколько душе угодно. Только его до ночи дома не сыщешь никогда». Но так я не могу. Должна же быть собственная гордость! И потом — получается вроде какого-то обмана.
А к Вите Т. относится очень неважно. «Шаромыжник, бузотер и сопляк. Чего ты в нем, дуреха, нашла?» Я думаю, что она его просто не понимает. Может быть, потому, что он ее младший брат, и она относится к нему так же, как я к нашему Боре, только Боря еще, конечно, куда младше, и я его очень жалею. А Витя совсем не такой, как она думает. Он...
Ой, я, кажется, лишнего расписалась. Дневник дневником, но...
Спать!
А Витя . . . . . . . . . . . .».
Ох, в каждой строчке только точки!..
Какой я такой, по мнению Оксаны, мне прочитать не удалось, там стояли одни лишь эдакие многоточия — догадайся, мол, сама. Но у меня и без того теперь горели уши. И потому, что Оксана так хорошо ко мне относится и так понимает меня. И потому, что на самом-то деле сам-то я порядочная-таки свинья; действительно — шаромыжник, бузотер и сопляк. И потому, что я, оказывается, совершенно не понимал свою старшую сестру, сомневался и в ней, и даже в Володе. А она просто старше меня и побольше кое-что знает. И Оксана, выходит, поумнее меня, раз все-все распознала правильнее и раньше, а я-то плел околесицу за околесицей, как ровно слепой кутенок!
Это я почувствовал больше с гордостью за Оксану, а не столько с обидой на себя. Единственное, в чем я был не согласен с ней, — насчет Мамая.
С Мамаем все не больно-то просто. И не всегда он бывает таким «отвратительным» — слово-то какое подобрала, как у дореволюционной гимназистки, кисейной барышни! Тут, скорее, все мы куда-то не туда идем, не то что-то делаем, и я его ничуть не лучше. Иногда, правда, лучше... Просто дела такого нам нет, чтобы по-настоящему по нашим зубам, всё какие-то мы ни маленькие, ни большие, ни воевать нам и ни работать... Вот если бы, скажем, в чем-нибудь серьезном и важном Мамай куда-нибудь не туда бы свернул, тогда бы, конечно, и разошлись наши дорожки...
Э, да при чем тут при всем какой-то Мамай?! Есть, наверное, вещи позначительнее нашего бесконечного с ним цапанья и дележа, разве это главное в жизни? Песенку такую иногда поют по радио или, может, арию из какой-то оперы: «Не пора ли мужчиною стать?». Вот — не пора ли? Если уж пластаться с Мамаем, то по-крупному, в чем-то мы все-таки, видимо, основательно расходимся с ним, а так — дак и нечего забивать голову. И не о нем мои сейчас мысли вообще!
Оксана!..
Я нашел и прочитал самую последнюю запись в дневнике, написанную без проставленного числа в начале:
«Последние дни были очень тяжелыми, нехорошими, так что совсем не хотелось писать. Но ведь высказывать в дневнике (то есть себе самой?) нужно же не одно лишь хорошее и красивое, иначе получится сплошной обман? Собралась с духом описать, что было, сразу за несколько недель.
Однажды поздно вечером, когда я была дома одна (Боря спал, а мама дежурила в ночную), к нам пришел Витя. Сначала я просто испугалась: он никогда не приходил так поздно, и был страшный такой, весь в крови. Стыдно признаться, но я даже подумала: уж не пьяный ли он? Но не подала виду, что испугалась и не хочу такого его появления».