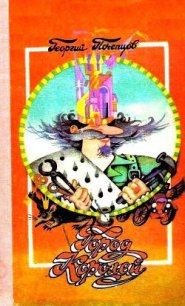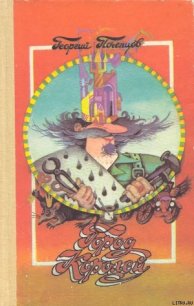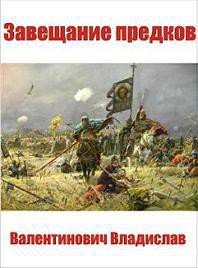Легенда-быль о Русском Капитане - Миронов Георгий Михайлович (книги онлайн без регистрации .txt) 📗
Николай Ермаков обернулся. На крик нельзя было отвечать криком, и он заставил себя усмехнуться, сказать как можно мягче:
— Что ты все твердишь «был», «был»? Командиром — был, комсомольцем — был, живым, значит, тоже — был. Что же в тебе на сейчас осталось — только эта песня?
Николай снова подошел к парню вплотную — у того было открытое, наверное, когда-то круглое, добродушное, а теперь худое, искаженное злостью лицо. С неожиданной проникновенностью Николай сказал твердо:
— А я не был коммунистом — я им остался, ясно? Ос-тал-ся! И на хорошие времена и на плохие — навсегда. Так-то, браток! Спел бы здесь я хорошие песни, но слова знаю, а ни голоса, ни слуха нет. Так что ты пой, только репертуар-то обнови. Другие наши песни вспомни!..

И полез на свои нары, на последний, третий ярус. Там лег на спину, заложил за голову руки и больше ни в какие разговоры не вступал.
Наутро к Николаю подошел темнолицый носатый человек, тихо сказал с кавказским акцентом:
— Ты вчера говорил все правильно, но учти, что тебя слушали не одни друзья, а и люди, которые сегодня же донесут.
— Пусть, — отвечал Николай. — Иначе я не умею. К тому же мне терять нечего, видите? — и указал на красную мишень на груди.
Советских военнопленных, соседей капитана по бараку, удивило странное, необычное для лагеря поведение их товарища. Он не чуждался своих соотечественников, нет, но ни с кем из них близко не сошелся, со всеми был ровен и ни от кого не скрывал своей жестокой ненависти к немцам: не только к фашистам, нацистам, представленным лагерным начальством — от штурмбаннфюрера до последнего охранника, но к немцам вообще. Всю силу своего характера переплавил капитан Николай Ермаков в эту свою ненависть к немцам. Он ненавидел все, что было связано с ними: их язык и их смех, их запах и систему их лагерей уничтожения, их одежду и их лица.
Тяжелый надлом в Николае Ермакове произошел вскоре после его пленения. Сражаясь на фронте, участвуя в смертных кровопролитных боях рядом с товарищами, он заражал их своим мужеством и жизнелюбием и сам учился мужеству и стойкости у них. Он был полон счастливой уверенности, что не погибнет, а довоюет до победы, увидит послевоенную жизнь, которая будет устроена самым мудрым образом. Николай просто не представлял себе, как это он — он! — может умереть, не доучившись, не построив ни одной дороги, не увидев беловолосого родного сыщики Юрки, своей умной и сердечной жены Иришки, мудрых, «просветленных» стариков своих — отца и мать, своей Москвы, своей улицы в Сокольниках с удивительным, неповторимым названием Матросская Тишина.
До плена Николай очень ясно, до мельчайших подробностей представлял себе, как, отвоевав, победив, возвращается домой. В шинели, с легким вещевым мешком на плече он выходит ранним-ранним утром из метро «Сокольники», идет мимо красной пожарной каланчи, мимо серой громады клуба имени Русакова, вдоль длинного кирпичного забора Остроумовской больницы, доходит до Первой Боевской и сворачивает направо, к своей Тишине, проходит напрямик среди корпусов стандартных домов «нового быта», что строились в начале тридцатых годов, и последний из них — такой же неоштукатуренный, красно-бурого цвета, как все остальные, — его дом; взбегает на третий этаж, звонит; распахивается дверь, и он разом всех — сына, жену, отца, мать — схватывает в объятия…
Прочно уверовав, что никакая война не сможет отнять у него будущего с этим вот возвращением, с учебой, с непостроенными им еще дорогами и тоннелями, Николай Ермаков воевал самозабвенно и мужественно, с непоколебимой верой в безмерную правоту того дела, ради которого он воюет, и такой же безмерной надеждой на грядущее счастье свое, своей семьи и своей страны.
Легко и уверенно Николай переступил ту грань, за которой оказался уже не подвластен сковывающему чувству самосохранения, убежденный, что в самой трудной обстановке сумеет наилучшим образом выполнить свои обязанности гражданина, свой долг солдата.
Но все то, с чем ему пришлось столкнуться в фашистских лагерях, вначале поколебало, а потом и вовсе вырвало у него гордую и счастливую уверенность, что из той трагедии, которая зовется «человек и война», он сумеет шагнуть в будущее. Николай не сломался, но утратил драгоценное чувство веры — нет, не в себя! — а в то, что сумеет в этих условиях измениться, приспособиться, молча сносить все издевательства и унижения и найти в себе силы для хитрой, скрытой, непривычной для него борьбы с врагом.
Он ни за что не сознался бы теперь даже самому себе, что в этом его вызове больше неуверенности и беспомощности, чем силы и стойкости. Он уверял себя, что иначе не может и что, коли суждено погибнуть, он должен принять смерть, как солдат, бросив открытый и смелый вызов врагам.
Утратив надежду на будущее, Николай Ермаков все чаще обращался к прошлому, и из того, что раньше признавал в своей жизни правильным и не подлежащим критике, теперь многое подвергал сомнению, а то и вовсе отвергал. Он несправедливо упрекал себя в недальновидности, прямолинейном, упрощенном подходе к жизни и даже эгоизме, не сознавая, что взрослеет, что, расставаясь с юностью, становится мужчиной, способным критически оценивать каждый свой поступок и соразмерять с этой критикой свои действия.
Как он мог, думал Николай, зная о предстоящей войне, обзаводиться семьей? Как он смел, уже покинув институт ради танкового училища, готовя себя к этой войне, ворваться в жизнь Иришки, увести ее за собой, оставить ей сына?
То, что раньше представлялось Николаю высшим счастьем, — встреча с той единственной, уготованной ему самой судьбой, ее взаимность, ее стыдливая и пугливая первая любовь, появление сына, его, их Юрки, — все это теперь казалось ему несчастьем, бедой для Иришки и несмышленыша сына, которые останутся теперь без него, одинокие отныне и до века.
Но, помимо воли Николая, то светлое, чистое и радостное его прошлое захватывало в полон, и согревало, и придавало силы, отталкивая запоздалые сегодняшние попреки в собственный адрес.
…— Простите меня, я не могу уйти, пока мы не познакомимся. Мне это очень нужно. Я сегодня уезжаю. Я понимаю, что нельзя знакомиться вот так на улице, но другого выхода у меня нет.
Эти растерянные и нелепые слова Николай говорил незнакомой девушке, высокой, тоненькой, синеглазой, с простеньким студенческим портфельчиком в руке. В последний раз призывник Ермаков бродит по осенней Москве, прощается. В кармане литер до Горького, направление военкомата в училище. Голова уже острижена, в руках вместо стопки книг и конспектов — чемоданчик… Иришка стояла с подружкой, вся пронизанная светом, в начале бульвара, возле Кропоткинских ворот. Потом она прошла мимо, обдав его легкой волной духов и каким-то своим особым, совсем детским запахом — он помнит его до сих пор…
Николай шел за ней по Кропоткинской и Пироговке до ее института. У самых дверей решился: нагнал и пробормотал те глупые слова. Светлый пушок у нее на переносице смешно встопорщился. Она гневно сверкнула глазами и подошла к группе ребят и девушек у подъезда. Выслушав ее, все повернулись и поглядели на него. Трое парней двинулись ему навстречу — славные ребята, его ровесники. Разговор был неприятный, он отшучивался, краснел, а один из студентов, маленький, хлипкий, в огромных роговых очках с толстенными стеклами, горячился больше всех и грозил милицией (это был Изька Гольдин; потом на их свадьбе он ревел «горько» так оглушительно, что девчата зажимали уши; полуслепой, ушел в ополчение и погиб под Вязьмой тогда же, в сорок первом). Николай терпеливо ждал у подъезда. Наступал вечер, и до отхода поезда оставалось совсем немного.
Она как будто не удивилась, что он все еще здесь. Тревожные девичьи глаза были совсем близко.
— Как я боялся, что вы… — он не договорил, но она поняла, чего он боялся.
Тот самый Изька на первой же перемене подошел к ней;
— Ирка, а ты ведь дуреха. Парень-то не похож на обыкновенного мышиного жеребчика. Он мне понравился. Бросай все — беги, он еще внизу, а вдруг это явилась твоя судьба…