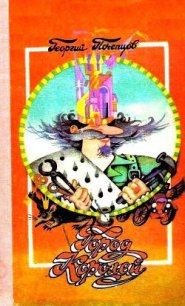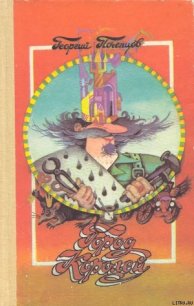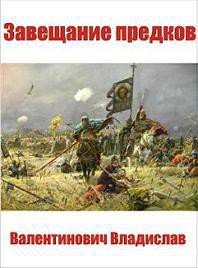Легенда-быль о Русском Капитане - Миронов Георгий Михайлович (книги онлайн без регистрации .txt) 📗
Но она «выдержала характер» — отсидела лекции. На глазах у всей группы подошла к нему, и они молча, сталкиваясь плечами и пугливо отстраняясь, пошли по Пироговке. Жадное чувство узнавания объяло их, волнующее, незнакомое и такое огромное чувство… Николай, лежа на деревянных нарах в вонючем бараке, не раз ночами явственно слышал ее голос: «Лейтенант, ты же еще молодой, у тебя все впереди, заработаешь жене на тряпки. Махнем-ка лучше на Кавказ!»
Так могла говорить только его Иришка.
Было много разлук и много писем, таких же умных и сердечных, как эта случайно встреченная им на самом пороге войны юная студенточка, ставшая его женою.
Сын учился ходить в ту самую пору, кода его отец, как и миллионы других отцов, учился воевать.
Год разлуки с женой, военный год от лета до лета. Иришка писала часто, он нетерпеливо раскрывал залепленные штампами военной цензуры треугольнички желанных писем; один раз получил в конверте фотографию: Иришкины честные и строгие глаза спрашивали: «Как ты там без меня?» Юрка смотрел на отца беззаботно и беспомощно, свернувшись маленьким комочком на коленях у матери… Глаза жены не отвели его от той, другой женщины. Лена ушла с его пути сама…
Как язык его повернулся говорить ей стершиеся, банальные слова о войне, что завтра их всех могут убить и ничего не останется?.. Все это, сказанное другими людьми в другой обстановке, да и ему самому потом, показалось пошлым и глупым. Тогда же, душной ночью, полной одуряюще острого запаха цветов, озаренной отблесками недальних пожаров, — напряженной предбоевой военной ночью, — все эти слова казались верными и такими необходимыми для их сближения. Зачем это все было? Как он смел тогда поступать так, как поступил? Словно в сердце своем отодвинул в сторону Иришку и привлек ту одинокую горькую женщину. Ведь для того чтобы он снова почувствовал себя не скотом, а человеком, умеющим владеть собой, нужно было услышать тихие Ленины слова — они ударили тогда в самое сердце неизбывной печалью и горечью осуждения:
— Как так можно?.. Как можно пользоваться горем и одиночеством женщины?.. — Однако, говоря так, она не отпускала его, тогда он сам отшатнулся от нее и, уходя, услышал тихий плач.
…Все эти обрывочные мучительные думы о жене, о себе, о той полузнакомой женщине копили в Николае все больше презрения и даже ненависти к самому себе, и однажды он даже подумал, что плен — это воздаяние за его увлечение.
— Ну, ничего, — решил он, — теперь уж недолго. Отсюда не убежишь, остается одно — подороже продать жизнь перед дорогой в крематорий…
Почти наверняка Николай Ермаков поступил бы именно так, если бы не его товарищи по неволе.
В этом лагере была, как и в подавляющем большинстве фашистских лагерей, своя небольшая, но сплоченная подпольная организация, в которую входили, кроме русских военнопленных, немецкие, чешские, югославские коммунисты, несколько французских социалистов и немецких социал-демократов и даже один католический священник.
Состояние Николая товарищи разгадали почти верно. Многие из них прошли через подобные испытания. Главный лозунг интернациональной группы: «Борьба за каждого человека» — был немедленно распространен и на новичка; сам того не желая, Николай оказался в центре этой борьбы.
Руководитель русской подпольной группы Рачия Авакян, до плена подполковник авиации, посовещался с председателем антифашистского комитета лагеря Гюнтером Кранцем, работавшим писарем в канцелярии. Этот немецкий коммунист находился в лагере уже три года. Он изучил повадки и психологию своих тюремщиков ничуть не хуже, чем они все тонкости кровавой своей профессии. Кранц после разговора с Авакяном намекнул коменданту лагеря Раушенбаху, что русский капитан неспроста скрывает свою фамилию, и, убив этого человека, господин штурмбаннфюрер угодит в число военных преступников, да и его хозяевам в Берлине вряд ли покажется разумной поспешность с отправлением в крематорий человека, может быть связанного родством с кем-то из высокопоставленных русских… Бывший владелец колбасной, падкий до всякого рода сомнительной романтики, человек трусливый и ограниченный, попался на удочку многоопытного Кранца, и таким образом на какое-то время жизнь «неистового капитана» оказалась вне опасности.
Заключенные антифашисты, ведавшие распределением людей в команды, получили от комитета указание направлять русского капитана на сравнительно легкие работы; неизвестные люди передавали ему то сигарету, то кусочек хлеба или маргарина; «неистовый капитан» почти постоянно оказывался в тех рабочих командах, где конвоиры не отличались особой свирепостью.
Плотников, заместитель Авакяна, первый начал с новичком откровенный разговор. Услышав, что капитан скрывает свое имя потому, что считает плен позором, он с удивлением сказал товарищу:
— Ты разве добровольно им сдался? Нет! Или выдал военную тайну? Тоже нет! Тебя подобрали раненым, неспособным к сопротивлению. Может, жалеешь, что не застрелился? Если жалеешь — дурак, и не обижайся на меня, старика, я тебе в отцы гожусь…
— Так слушай меня, капитан, — говорил Плотников, тяжело опираясь на лопату и топорща седые брови. — Я комдив, коммунист, воевал еще на гражданской, и в плен не сам пришел, поверь мне. Неделю дралась моя дивизия на границе. В последнюю атаку без патронов шли, с одним «ура» и суворовским штыком… Это, я тебя спрашиваю, позор? Мне, старику, думаешь, легко слышать твои слова? Плен — позор, а немцы, конечно, все до одного враги, да? Очень много путаешь ты. Молодой еще… Между прочим: капитан — твое звание или лагерное прозвище?
— Я капитан. Красной Армии Николай Ермаков.
— А я полковник Красной Армии Василий Иваныч Плотников, — сказал Плотников и улыбнулся. — Значит, познакомились. А насчет немцев, Ермаков, разберись, не всех мерь одной меркой. Ну, давай работать, а то облают или изобьют… немцы. А ночью хлеб и табак пришлют… тоже немцы. Вот и разбирайся…
Товарищи решили: теперь с русским капитаном должен поговорить немец-антифашист — представитель лучшей части германского народа.
Через несколько дней, поздним вечером, когда все возвратились с работы, к Николаю, лежавшему в своей клетушке на нарах, подошел Авакян.
— Тебя хочет видеть один человек, — тихо проговорил он.
— Меня? — удивился Николай. — Но я здесь никого не знаю.
— Зато тебя знают, — возразил Авакян. — Пойдем.
Николай послушно слез с нар. Они вышли из барака. В сгустившихся сумерках летней ночи едва виднелась прямая фигура неслышно шагающего Авакяна, за которым брел Николай.
В нем нелегко было теперь узнать того ладного, стройного, удачливого и уверенного в себе командира, который когда-то водил в бой своих танкистов. На висках засеребрились ниточки седины, резкие морщины избороздили лоб и щеки. Он страшно похудел и шел ссутулившись, стараясь не стучать деревянными башмаками.
Они пробрались к зданию котельной. В маленькой подвальной комнатке без окон слабо горела коптилка. Длинный, очень худой человек в лагерной одежде с красным винкелем политического заключенного шагнул к Николаю.

— Познакомься, это товарищ Кранц, германский коммунист, — сказал Авакян. — Он будет говорить с тобой. Я пойду, геноссе Гюнтер, ты потом покажешь капитану дорогу к его бараку.
— Карашо! — отвечал немец. — Сядем, товарич.
Разговор пошел на русском языке. Гюнтер Кранц говорил неправильно и очень медленно, часто останавливался и крутил в воздухе пальцем, подыскивая нужное слово.
Николай зло прервал собеседника.
— Может быть, будем говорить по-немецки? — сказал он. — Я учил этот язык в школе и институте и уже год таскаюсь по вашим проклятым лагерям. Во всяком случае, хоть один из нас не будет коверкать чужой язык. Что вы от меня хотите?
Но Кранца нелегко было сбить. Вглядываясь в полумгле в своего собеседника, он отвечал по-русски:
— Всего, товарич, кроме самоубийства. Не нада бросайть себя на проволока, в которой есть высокий вольт напряжений. Не нада нападений на эсэсмана с самодельный нож. Не надо, товарич, доставляйть им удовольствий быть мертвец…