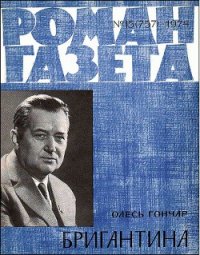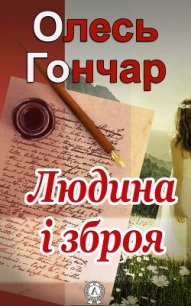Человек и оружие - Гончар Олесь (библиотека книг бесплатно без регистрации .TXT) 📗
— Удивительно, как много у дикости общего, — сказал Колосовский шагавшему рядом Лагутину. — Помнишь стрелы из скифских могил? Стрелы Батыевых орд? Они тоже с таким оперением. Грустно становится от подобных ассоциаций.
Все более явственным и мощным гулом дает знать о себе фронт. То и дело налетают вражеские самолеты, разгоняют студбатовцев по хлебам, по канавам. Носом в землю — и слушай, как, выворачивая душу, воет над тобой металлический хищник, как прямо на тебя падает он с пронзительным визгом.
Бредут из хлебов, и неловко, стыдно смотреть друг другу в глаза — от унижения, которое только что пережили, оттого, что вынуждены прятаться, ползать по родной земле.
— Позор… Затравленным зайцем себя чувствуешь, — отряхиваясь, признается Мороз. — Землю носом роешь, ползаешь на четвереньках…
Филолог Чемерис смеется нервно:
— Мы вот с Калюжным как раз спорили, кто гениальнее: Стендаль или Флобер? Я говорю — Стендаль, он — Флобер… Я свое, он свое… А когда налетели да трахнули, так он шлепнулся и руками замахал: Стендаль, мол, Стендаль, черт с тобой!
Смешно, кажется, но ребята не смеются.
Меж хлебов высоких идет студбат, сухим металлическим звоном позванивают тугие колосья; седыми волнами переливается рожь; густо зарумянилась перепутанная, закрученная ветрами пшеница.
Во всем — нарастающее беспокойство, усиливающаяся тревога. Везут раненых, бредут беженцы, грохочут грузовики с боеприпасами. Тысячи человеческих лиц мелькают перед тобой, и среди них ни одного веселого. Нет в этом краю веселых лиц!

Во время одного из привалов возле Духновича собрались товарищи. Просто непонятно было, как он до сих пор шел. Нога нарывала, и сейчас ее разнесло так, что насилу стащили сапог. Распухла как бревно, посинела, блестит нездоровым блеском.
— Почему же ты молчал?
Но Духнович и сейчас не жаловался, только по его веснушчатому, вдруг покрывшемуся капельками пота лицу можно было догадаться, как ему плохо.
Еще ночью, в вагоне, когда все спали, он мучился. Никогда не думал, что такую боль может причинять нарыв. Кажется, если бы ногу отрубили, было бы легче. Никому не жаловался, не хотел. Мог ли он признаться, что уже на полдороге к фронту оказался негоден? Ничего себе доброволец!..
Беспомощный, лежит у дороги с обнаженной, отвратительно распухшей ногой и уже не верит сочувствию товарищей, кажется, что сейчас они могут испытывать к нему лишь одно — презрение. Как он пойдет дальше? Ведь нога, наверно, и в сапог не влезет!
— Добрую вавку приобрел, — подойдя к ним, заговорил Гладун и, наклонившись, пощупал распухшую ногу почти с завистью, будто сожалея, что такой дар судьба посылает не ему, а этому недотепе Духновичу, который не сумеет даже как следует и воспользоваться им. — Вавка хоть куда… Имеем первое ЧП.
Подошел комиссар Лещенко, с ним командир роты — молодой лейтенант из училища. Стали советоваться. Ясно, Духнович дальше идти не сможет. Куда же его сдать? Кому поручить?
Духновича испугал этот разговор.
— Я пойду. Я могу идти, — ухватился он за сапог. — Прошу вас, никуда меня не сдавайте. Это скоро пройдет. Богдан, дай руку!
С помощью Колосовского и Степуры он поднялся и так, опираясь на них, двинулся в одном сапоге дальше.
Винтовку и скатку его теперь несли другие, а он, повиснув на плечах товарищей, двигался позади колонны, как живое распятие, в тяжелой своей каске, клонившей голову набок. Каждый шаг отдавался нестерпимой болью. Духнович прыгал по шоссе, как по огню: что бы ни случилось, он должен идти по этим разбитым камням вперед, идти, хотя бы и безоружным, навстречу войне, навстречу тому, что гремело и стонало по всему горизонту. Ничего не было для него более страшного, чем оказаться покинутым, остаться одному, без товарищей, самому признать свою немощь и не быть вместе с другими в деле, к которому внутренне готовился все это время после райкома.
В ногу стреляло и стреляло огненной болью, мир заплывал желтизной, порою Духнович чувствовал, будто падает куда-то, и горячие плечи товарищей были ему единственной опорой.
Комиссар остановил первую же машину, что стремительно мчалась навстречу. Перемолвившись с запыленным лейтенантом, который сидел рядом с водителем в кабине, он подождал, пока ребята подвели Духновича к грузовику.
Слезы бессилия брызнули из глаз Духновича. Умоляющим голосом он снова стал просить не сдавать его, не бросать.
— Товарищ комиссар, я пойду, я прошу…
Но его все-таки посадили через борт в кузов, устроили между брезентами, пустыми ящиками из-под снарядов, туда же бросили сапог, винтовку, скатку и вещевой мешок с привязанным к нему теплым от солнца котелком.
— Счастливо, друг…
У него был вид человека, смертельно обиженного, уничтоженного, отброшенного прочь.
Когда машина промчалась, Гладун, оглянувшись, промолвил ей вслед:
— Считайте, один отвоевался…
Чадно грохают мины в хлебах. Зной, грохот и дым. Весь мир уже словно бы пропитался этим горячим тошнотворным чадом рвущихся мин, свежие воронки еще дымятся, и опаленная, взрытая земля пахнет смертью, а воздух снова пружинит, и снова то тут, то там среди хлебов — грах! грах!
Прямо с марша студбат угодил под шквал огня. Когда приближались сюда, впереди, в разливе хлебов на пригорке видели хуторок какой-то — хата, поветь, садик. Там командный пункт дивизии, именно туда их ведут. Хлеба стояли могучие, почти в рост человека. Тихо было, и курсанты даже слышали крик перепелов во ржи и видели аиста над хатой, а возле хаты — просвеченные солнцем высокие мальвы цветут, прекрасные, как девчата! И вдруг — черные гейзеры взрывов, все ближе удары мин в хлебах, бегут оттуда бойцы, окровавленные, в копоти, кричат что-то… Минометный налет, а они выстроены у садика, где им приказано ожидать осмотра, и стоят, пока из-под деревьев не налетел на них грузный мужчина — генеральские звезды в петлицах.
— Студбат! Чего застряли? — чуть ли не с кулаками набросился он на командиров. — В оборону! Ложитесь! Окапывайтесь! Вот здесь занимайте оборону!
Вмиг рассыпавшись вдоль сада, к которому прилегали хлеба, курсанты лежат теперь рядом с автоматчиками комендантской роты, никого и ничего не видят, кроме пшеницы, ржи и комьев земли, фонтаном взлетающих до самого солнца. А мины снова сверлят воздух, бьют сухими ударами, и студбатовцы прижимаются к земле в своих борозденках, шарахаются от каждого взрыва.
«Так вот она, война», — с горечью думал Колосовский, глубже втискиваясь в борозду.
Неподалеку от Колосовского в той же борозде еще кто-то жмется — каска у самой земли. Степурины плечи.
— Ты живой?
— Живой.
А мины бьют, и неизвестно, кого из них накроет вот эта, что визжит и с сухим треском грохает где-то неподалеку. Шелестят, трещат колосья, кто-то подбегает, с разгону падает возле них — кто это? Залит кровью — кровь на лице, на гимнастерке. Колосовский с трудом узнает — Ярошенко с геофака.
— Мина! — хрипит он. — Упала вот так от меня, рукой мог бы достать. В плечо вот и в лицо… Глаза не выжгло? Я вижу? Я не слепой?
Колосовский, разорвав индивидуальный пакет, кое-как перевязал ему искромсанную скулу и направил к санитарам:
— В садике они. Беги!
И Ярошенко побежал, оставив после себя брызги крови на сухих комьях земли, на белой, вьющейся по стеблям повилике.
Обстрел усиливается. Вибрирует, пружинит от металлического свиста воздух. Это уже не мины — снаряды летят, проносятся, кажется, над самой головой, аж глохнешь от них, аж барабанные перепонки лопаются. Один из снарядов жахнул в хату, прямо в лицо ей, и с грохотом взрывается внутри, в самой сердцевине человеческого жилья. Еще один врезается под застреху, поднимает облако соломенной пыли, и вся крыша рушится, оседает, охваченная клубами дыма, пламенем, — уже нет ни подстриженной бахромы по углам, ни аистова гнезда с аистятами возле трубы, — одна только аистиха кружит в воздухе.