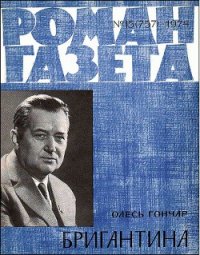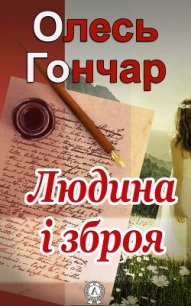Человек и оружие - Гончар Олесь (библиотека книг бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Нет штаба. Разнесло штаб. После этого огневой налет прекратился.
— Хуже всего, что можешь вот так, ни за что ни про что пропасть, и никакой пользы от твоей смерти, — слышит Колосовский голос Степуры. Присев, тот внимательно разглядывает зазубренный, еще не остывший осколок. — Врага живого в глаза не видели, а уже попали в этакую кашу…
В самом деле, словно черный ураган, который с корнями выворачивает деревья, сметает человеческое жилье, разрушает все на своем пути, — так и тут пронеслось, искромсало землю, отравило степной воздух запахом гари, пороха и крови… Пронеслось, и снова зазвенела тишина.
Колосовский поднялся, огляделся. Дым стелется над хлебами, над садиком. Горящая хата пышет жаром, она горит себе и горит, никто и не пытается ее тушить. Не до того сейчас. Среди знойной, дымной тишины то здесь, то там стонут раненые. В одном месте, на меже, которая отделяет огромное поле ржи от пшеницы, собралась целая толпа студбатовцев; склонившись, что-то рассматривают. Колосовский и Степура, путаясь в густой ржи, заторопились к ним.
Невероятно было то, что они увидели.
Как от удара молнии, которая в летнюю грозу бьет среди поля, была разрыта земля в этом месте, а среди изорванных, измочаленных и смешанных с землею стеблей лежал Дробаха. Ноги разбросаны, голова неловко вывернута, зубы оскалены, а лицо черное, сожженное… Правая рука лежит отдельно от тела, желтая, присыпанная землей. Страшно было поверить, что это оторванная, обескровленная рука Дробахи, рука, которая могла одним ударом сшибить противника с ног, сильная юношеская рука, которая в жизни знала и книгу, и отбойный молоток, и касалась твердой девичьей груди…
Нет Дробахи. Погиб со всеми своими подвигами, к которым был готов и которых так и не успел совершить. Тут же у хлебов, возле садика, они принялись рыть первый и последний для него окоп — вечную, с темными стенами хату для Дробахи.
Маленькими саперными лопатами роют первую студенческую могилу, засыпают ее молча, и растет она высоко — на всю степь, и видна она далеко, как Саур-могила, и уже с ветрами говорит. Но это она только кажется им такой высокой, на самом же деле маленькая, едва приметная среди густых колосистых хлебов.
Колосья стоят как люди.
Тот — высокий, вытянувшийся, словно на страже. Тот — пониже — поник, размышляет. Переплелись усами, неисчислимые, склонились один к другому в молчаливой задумчивости. А тот, глянь, с подломанным стеблем, вовсе утонул в гуще и вроде бы все хочет подняться… Буря его сломала, дождь ли, осколок?
Больше всего тех, что стоят в задумчивости: все поле думает думу. Пробежит ветерок — колосья слегка зазвенят шершавым, жестяным звоном…
Дым разошелся, горький смрад развеялся, и опять поле дышит горячими запахами лета. Перепелиный, кузнечиковый мир окружает свежую студенческую могилу. Вьюнок полевой вьется по стеблям, склоняется белыми колокольчиками, степной горошек краснеет камельками крови…
А день угасает. Тревожное, марсово-красное солнце лежит над хлебами, а там, на пригорке, где стояла белая хата, чьими-то заботливыми руками выбеленная, дотлевает черная куча руин. И только мальвы, высокие, девичьей стройности, по-прежнему красуются за углом дома в палисаднике, пронизанные солнцем, еще ярче полыхают в этот предзакатный час.
Духновича до самого вечера возили на грузовике. Трясся в кузове среди ящиков со снарядами и чувствовал себя лишним, никому не нужным балластом, так некстати навязанным этим молчаливым, суровым людям. Все они на своем месте, все знают свое дело и целиком поглощены им. Заедут в лес, погрузят боеприпасы и без разговоров, без задержки по тряской дороге — скорее к огневой, где в садах за селом ждет их, израсходовав все снаряды, батарея.
— Что вы ездите, как на волах! — сердились артиллеристы, и не успеешь оглянуться, они уже растащат из кузова все ящики, и грузовик пуст.
Когда впервые заметили Духновича, поинтересовались:
— Что за пассажир?
А потом уже и внимания на него не обращали, только всякий раз, когда сгружали ящики, невольно давали ему почувствовать, как он мешает им тут. Было нестерпимо ощущать себя обузой для людей, которые здесь, у орудий, не знают минуты отдыха и ведут себя так, будто они тут единственный заслон и только одни они могут еще сдержать, не пропустить противника.
По дороге грузовик несколько раз попадал под обстрел вражеских самолетов. Духнович, оставаясь в кузове, видел косые струи огня, которые лились с самолетов на землю, — из огнеметов, что ли, они там били или из каких-то особенных скорострельных пушек? Впервые он видел вдоль дороги трупы людей.
Потом артиллеристы высадили его в лесу, возле склада снарядов, велели подождать.
— Вот еще одна ходка, и тогда уж завезем тебя в медсанбат.
Но делали одну ходку, и другую, и третью, а его все не трогали.
Около снарядов стоит часовой, молодой красноармеец, он так настороженно держит свою винтовку, будто враг где-то здесь, за кустом. С Духновичем часовой в разговор не вступает. «Посадили и сиди, — как бы говорит он, — а у меня свои заботы — я на посту».
Ночью пошел дождь. После дневного зноя сразу повеяло свежестью, зашумел лес, магниевой вспышкой сверкнуло небо, разламываясь в бомбовых ударах грома. Разгулялась настоящая гроза. Все небо, казалось, содрогается, озаряясь трепещущими сполохами света, голубого, нездешнего. Вспыхнет и выхватит из темноты очертания туч, тяжелых, набрякших влагою, волокнисто разметанных по небу. Становится виден лес, гнущиеся под ветром деревья, и сквозь сверкающие листья макушек снова ослепительно блеснет кусок неба, дрожащий в магниевых сполохах. Гром в пучине туч грохочет и грохочет на разные лады, ударами неземной силы сотрясает, раскалывает небо — то ближе, то дальше, то выше, то ниже. Еще тут не затихло, а уже взрывается там, сердито перекатывается, и вся земля, оцепенев, будто ждет чего-то страшного, неотвратимого.
Около часа, наверное, бесновалось небо, лютовала гроза, а когда наконец отгремело, отсверкало, осталась только кромешная темнота, и в темноте этой лил и лил дождь. Нет неба, нигде — ни звездочки, только тьма и хаос, и по всему лесу — хлюпанье воды. Будто и вправду разверзлись хляби небесные. Черный ночной дождь льет и льет, готовый залить все и вся, как при всемирном потопе.
Часовой, когда начался дождь, заботливо прикрыл снаряды брезентом, а для Духновича и такого укрытия не было. «Да разве не естественно это? — думал он. — Снаряд сейчас нужнее».
Дождь не унимался. Часовой предложил наконец Духновичу перебраться под брезент, но тот решил терпеть, мокнуть до конца. Съежился в одной гимнастерке и мок, мок.
При нем была шинель, скрученная в скатку, но Духнович не догадался развернуть ее. Как скатал еще в лагере с помощью ребят и по указаниям Гладуна, так и держал все время на себе это туго скрученное, суконное, набрякшее водой ярмо. Вода ручьями стекала с веток прямо за ворот, Мирон промок до нитки, но не прятался, находя даже некую отраду в том, что природа глумится над ним. Он беспомощно и покорно горбился на том самом месте, где усадили его артиллеристы. Выставил под дождь ногу, налитую болью, и, поникнув над ней, все думал, думал свою горькую думу — что дождь, что тьма, если ему казалось сейчас, будто вся планета погрузилась в темноту. Фашистская ночь поглотила Европу, волны вандализма катятся все дальше и дальше, уже на дорогах Киевщины валяются трупы, самолеты огнем поливают с неба людей.
— И это у них называется движением вперед, прогрессом? — саркастически восклицал Духнович. — Всего сто тысяч лет назад мрачные неандертальцы с низкими лбами выходили из своих пещер, вооруженные примитивным кремневым топором. Прошло, по сути, очень немного времени, и человек обрел крылья, поднялся в воздух, пересек океаны. Человек стал Гомером, Шекспиром, Дарвином, Циолковским… Богоравный! И вот теперь, на гребне двадцатого столетия, снова этот черный, смердящий взрыв дикости, каннибализма… Высокоразвитая, культурная нация вдруг рождает армию убийц, разбойников. Планета во тьме. Один за другим гаснут города.