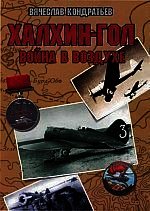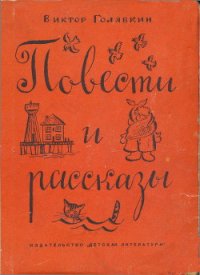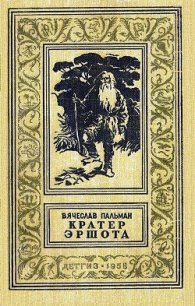На поле овсянниковском (Повести. Рассказы) - Кондратьев Вячеслав Леонидович (книги серия книги читать бесплатно полностью TXT) 📗
На поле треть моего взвода… И Савкин… Это он, учитель математики, шедший на войну вторым заходом, говорил мне еще на марше:
— В бою надо думать, командир. Бой — это вроде алгебраической задачи. Только данные в ней все время меняются. И надо ее решать каждый момент заново.
Увы, думать не пришлось. Закрутило, завертело. А Савкин с перебитыми ногами умирал на поле — долго и страшно. Сперва звал санитаров, потом пытался ползти назад, потом затих. Мы с Рябиновым были недалеко, но сделать ничего не могли. Так казалось тогда. А сейчас? Может, и могли?
Иду проверять посты. Их у меня пять. На посту двое — один отдыхает, другой должен бодрствовать и наблюдать. Должен! На деле — спят оба. Процедура однообразная — бужу, ругаюсь, грожу трибуналом и ухожу в полной уверенности, что через несколько минут оба опять будут спать.
Что делать? Не знаю! Видно, есть предел силам человеческим.
Подхожу к своему шалашу. В нем холодно и пусто. Набираю веточек и разжигаю костерик в каске. Конечно, не в своей, а подобранной, их валяется по передовой предостаточно. А в каске для того, чтобы не загорелся от костра уложенный в шалаше лапник.
Легкое потрескивание, маленькие язычки пламени, едкий дымок — становится уютнее. Ставлю котелок с водой — попить кипяточку на ночь, согреться. Потом цигарка — и спать…
Перед тем как заснуть — обрывки воспоминаний: Москва, станция Воробьевы горы, что на Окружной железной дороге, силуэт Крымского моста, нервная очередь у телефона-автомата, звонок к матери, ее нарочито спокойный голос и мои тоже нарочито уверенные и бесконечно глупые слова: «Мама, жди меня весной… Чувствую — увидимся весной. Весной…»
Уже весна!
Проснулся, как от толчка. Что-то тяжелое зависло в сердце — неспокойно. Выползаю из шалаша и иду на самый крайний пост. Окликают.
— Все спокойно, ребятки?
— Пошебаршился немец, пострелял маленько, а сейчас тихо, командир.
Действительно тихо. Только всплески ракет.
— Закурить бы…
Отказать не могу и отсыпаю на закурку.
Обхожу свой пятачок, который занимает моя битая-перебитая рота, — все нормально. И вдруг… В свете ракеты вижу в поле маленькую фигурку. Что за чертовщина? Может, мерещится?
Взвожу автомат, хоронюсь за деревом, наблюдаю. Нет, не мерещится. Человек определенно направляется к роще и, уйдя из зоны наблюдения немцев, спокойненько поднимается в рост и идет прямо на меня.
Выхожу из-за дерева — он испуганно шарахается в сторону, но я узнаю того бойца, что давал мне махорку.
— Лявин, подите-ка сюда, — приказываю негромко. — К немцам в гости ходили?
— Что вы, командир… За сухариками я… — Он вывертывает карманы и показывает: — Вот они. Нынче слабый трофей, а вчера много раздобыл. Хотите? — Он протягивает мне сухарь.
— Мертвых, значит, обшариваете?
— Я только насчет жратвы и курева. Вещевой мешок пощупаю, если чую сухарики или хлебец — беру. А по карманам — ни-ни.
— Покажите! — Он выворачивает наружу карманы брюк, но, кроме сухарей и махорки, ничего нет.
— У наших-то ни хрена нет, а вот у тех, кто до нас наступал, богато. Только далеко они, почти под самым немцем.
— И туда доползали? Не страшно?
— А чего? Жрать-то надо.
— Так вот, Лявин, — решаю я, — разбудите отделенного и сдайте ему свои трофеи. Пусть завтра перед обедом разделит на всех. Поняли?
— Нет! — Он исподлобья глядит на меня и отступает на шаг.
— Повторите приказание!
— Каждый сам может, командир. Я шкурой рисковал. Не отдам! — В его глазах вспыхивает злобный огонек. — Чего тут делить? Пущай сами поползают.
— Вы что, не поняли меня?
— Не понял! — почти кричит он и лезет в карманы, сухари летят на землю. — Пущай подбирают!
— Значит, ни себе, ни людям? А говорили, не жадный.
— Не жадный. Меня чуть не прихлопнуло сегодня. Глядите — вся шинель в дырках, как взяли вперехлест. — Он отвертывает полы разодранной пулями шинели. — Они дрыхнут спокойно, а я делись с ними! Неверно это, командир! Неверно.
Я раздумываю: может, я не прав?
— Ладно, подберите свои сухари. Я отменяю приказание. Но на поле больше ни ногой. Ясно?
— Ясно. — Он проворно собирает сухари и подходит ко мне. — Вот с вами, командир, могу поделиться. — Он протягивает мне несколько сухарей.
Я отказываюсь и, не совсем уверенный в правильности своих приказаний — что первого, что второго, — поворачиваюсь и направляюсь к своей лежке. Пареньку не откажешь в смелости, но брать его к себе в связные раздумалось.
В шалаше долго не могу согреться и засыпаю нескоро, сном мелистым и неспокойным. Просыпаюсь задолго до утреннего обстрела. Хуже нет этой маеты ожидания. Начисто, до последней табачинки опоражниваю карманы, закуриваю.
Три узких лучика просверливают шалаш. Смотрю, как играются дыминки — голубые, почти синие, с горящего конца цигарки и серые — выдыхаемые…
Почти два месяца одно и то же, а все не привыкнешь. Унизительно и обидно — ответить-то нам немцам нечем. Артиллерия наша давно молчит, не подают голоса и минометные батареи — боеприпасов нет и не предвидится. Распутица.
Ну, вот началось… Съеживаюсь, прижимаюсь к дереву, к которому прилеплен мой шалаш, нахлобучиваю каску и лежу жду — прихлопнет сегодня или нет?
Не считаю, но с полсотни мин он на наш пятачок кидает. Из них около десятка (чуешь по звуку) летят прямо на тебя, рвутся близко, шалаш прорезывается осколками, тебя обсыпает землей и хвоей, малость оглушает. Вечером то же самое. Это не считая шальных пуль, которые запросто летают стайками по роще, немецкого снайпера, может и не одного, и самолетных бомбежек, правда нечастых. Так вот и живем…
И на этот раз опять мимо. Выползаю на свет божий. Свет божий в дыму и гари. И в тишине. Только треск падающих перебитых осколками веток деревьев. Никто не кричит «братцы, санитаров», никто не стонет — утро доброе, значит, никого не задело.
Иду… Из шалашей вылезают «братья славяне». С лиц еще не сошли белила, еще нервно позевывают, но глаза уже ожившие. День начался — поиски курева и ожидание обеда.
Тоже хочу курить и знаю, где достать, — у того солдатика, но не иду его искать.
Пройдясь по роще и убедившись, что все ладно, плетусь к своему шалашику. Сегодня солнце. Стягиваю телогрейку, расстегиваю ворот гимнастерки и ложусь на землю. Простудиться мы тут не боимся. Всю весну мы мокрые, непросыхаемые — и хоть бы хны, хоть насморк какой или кашель. Глаза слипаются — всегда после обстрела тянет в сон. Задремливаю…
Будит меня знакомый голос:
— Прибыл для прохождения дальнейшей службы, товарищ командир.
Открываю глаза — передо мной Филимонов. А я и думать о нем забыл. Когда Волгу переходили, он не то вывихнул, не то сломал ногу и угодил в санроту — и вот, видно, вылечился, раз здесь, и вроде как родной, потому как из моего второго, не существующего уже, взвода последний.
— Здравствуйте, Филимонов, — говорю, приподнимаясь.
— Здравствуйте, командир. — Он оглядывает меня и покачивает головой. — Ну, и разделали вас… — Потом, увидев кубарь на моих петлицах, поздравляет со званием и добавляет: — Что-то знакомых личностей не приметил. Неужто никого не осталось?
— Да, Филимонов. От взвода только вы да я.
— Дела… — протягивает он.
— Мы ж наступали, Филимонов.
— Это я понимаю.
— Ну, а вы что там в тылу поделывали?
— Недельку повалялся, потом склады охранять поставили. — Тут только я заметил за плечами Филимонова пребольшущий, плотно набитый вещмешок.
— Тоже дело, — говорю, чтоб не угас разговор.
— Ну, я здесь около вас буду? Тут и живете? — спрашивает Филимонов, оглядывая мой шалаш.
— Располагайтесь, — отвечаю, не раздумывая. — Рябикова, моего связного, убило вчера. Помните его?
— Как не помнить. Шустренький такой.
— Будете моим связным.
— Согласен, — отвечает он по-штатски, потом поправляется: — Есть быть связным!
Филимонову за сорок. Таких мы называем «отцами». Он небольшого роста, худощав, узкое лицо сухо и морщинисто. Конечно, не заменить ему Рябикова, но все же он свой, из моего взвода, и знаю я его с начала формирования бригады. А хотя что я о нем знаю? Помню, на марше несколько раз обрывал его нытье — и кормежка не годится, и порядка нету. Все было так, но другие помалкивали, а он… Ладно, на передке люди узнаются быстро, расколется и Филимонов. А пока он садится около меня, неспешно развязывает свой мешок, запускает в него руку, долго шурует ею, потом вынимает: сперва пачку концентрата — пшенку, потом два сухаря и, наконец, целую нераспечатанную пачку «моршанской», которую молча протягивает мне.