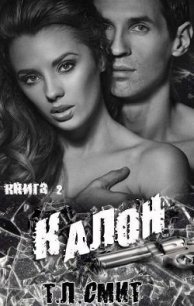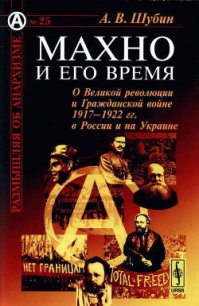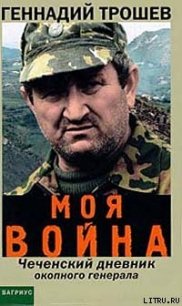Женщина в Гражданской войне (Эпизоды борьбы на Северном Кавказе в 1917-1920 гг.) - Шейко М. (книги регистрация онлайн txt) 📗
Я заболела тифом, болела три недели. Стала выздоравливать. Кадеты стали на камыши наступать. У нас, на острове, стали рваться снаряды. Там, в земле, были выкопаны землянки с маленьким окошечком. Наши все кричат: «Ура! Ура!» Озеро покрыто тоненьким льдом. Женщины к нам пришли вброд по озеру, добираясь к нашему штабу. По самую шею мокрые, дрожат. Мы начали раскладывать в землянках огонь и их обсушивать и обогревать. Только обсушили четырех женщин — идут еще семь человек, трое с грудными детьми. Нам сообщили: партизанский штаб уже разбит. После этого мы еще жили на острове один день. Затем мы, тридцать женщин, имея сорок пять детей, решили идти в село ночью. Нас наши мужчины и часовые не пускают. Бабы поскладали всю одежду на пять подвод и пошли бродом. Вода до грудей доходила. Наши мужчины ужасаются: «Куда вы идете, все равно умирать одни раз». Мы не слушаем их. Пошли вброд гуськом, один другому в затылок — плач детей, крик, шум от ледяной воды. Мы своих детей запугивали: «Молчите, а то кадюки постреляют». Так шли по воде четыре версты, вышли опять на сухой остров. Я шла больная по воде и отстала, выбившись из сил. Попросила меня бросить, но меня взяли под руки и привели в курень. Женщины уже разложили костры, среди куреня сушатся и греются. Меня начали обогревать. Я очень крепко уснула. Проснулась, когда уже почти все ушли, остались только семь женщин, шесть детей и один мужчина. Пошли мы по тропинке. Камыш, лес, кустарник, осока. Подошли к прорве, перелезли верхом по дрючкам, идем домой, опять подходим ко второй прорве. Там стоит кадетская застава. Часовые крикнули: «Стой, камышане, стрелять на месте будем!» Мы: «Стреляйте, нам все равно смерть». — «Ну, переходите на эту сторону, на сухое место». Мы перелезли через дрючки. Часовые женщин грубо обыскали и повели в село. Вели по дороге, по садам. Довели нас, мокрых, до села и приказали идти в крайние хаты и скрываться до ночи, в село не ходить. Мы пошли — кто куда. Я спряталась в канаву, сидела, дрожала, мокрая, до ночи. Ночью пошла домой, к матери родной. Свалилась в постель. Соседи белым заявили — пришла Жмыкова, камышанка. На второй день утром рано приехали к нам два всадника-белогвардейца. Послал их к нам мой родной дядя. Вошли в хату кадеты, нас было две сестры и мать-старушка семидесяти лет. «А где ваша камышанка?» Мать указала: «Вот, лежит больная». Он наставил винтовку на меня, спрашивая: «Говори, где твой муж, а то буду стрелять». Я: «Стреляй, мне все равно. Придет время — в вас будут стрелять». Кадет злится, молчит. Губастый, носатый, черный, морда большая. «Мы тебя заберем с детьми и отвезем за слободу, расстреляем». А потом: «Давай деньги». Мать-старушка стоит, плачет, вытирает слезы. Сынишка мой стоит и кричит: «Ой, мамо, мамо, що ж мы будем робыть, як нас повезуть расстреливать!» Я уговариваю сына: «Молчи, сынок, пусть стреляют. Им тоже не миновать этой кары». Кадет ко мне придирается с сердцем, аж подпрыгивает: «Тоби кажу, давай гроши». — «Грошей у мэнэ нэма». — «Ну, давай твое барахло». — «Мое барахло уже забрано». Кадет сердится: «Брешешь ты. Нам сказала женщина, твое барахло лежит у сестры». Сестра жила рядом. Кадеты пошли к ней. Забрали вещи в мешки и пришли опять ко мне. Опять стали придираться: «А ты казала, що забрано барахло, а мы нашли». Мне приказали одеваться: «Мы повезем тебя расстреливать». — «Если хотите, то стреляйте меня здесь». Во дворе лежала скирда кизяков. Этот, толстомордый, раскидал все кизяки, не нашел ничего, мать подошла к нему и говорит: «Что они тебе, кизяки, мешают?» Он рычит: «Уйди, все равно и тебя, старая ведьма, расстреляем». Вошел в хату и говорит: «Давай деньги, мы тебе отдадим твое барахло». — «Денег нет. Скорей стреляйте, не мучьте». В хату вошел мой сынишка. Толстомордый наставил на него наган и кричит: «Скажи, где деньги?» Сын: «Денег нет». — «Брешешь, а то бить буду плетью». Стал придираться к старухе. Залез к ней за пазуху, вытащил сто пятьдесят рублей денег. Забрал деньги и барахло. Я прошу: «Дайте мне хоть одно платье и платок, а то умру, и хоронить не в чем». Ничего они мне не дали. Стали они тут же делить награбленное. Таскают друг друга по комнате, вцепившись один за одну штанину, другой за другую. Но толстомордый все забрал и надел на себя.
Думала, не доживу до лучших времен. А теперь это проклятое прошлое только сном кажется.
М. Мелешко
КАКОЕ СЧАСТЬЕ, ЧТО ЭТО НЕ ПОВТОРИТСЯ
В конце восемнадцатого года, когда красные отступали, муж мой тоже с красными отступил на Астрахань через пески и буруны.
Я в это время осталась с четырьмя детьми, самому старшему было двенадцать лет. Я с детьми сидела в комнате. Двери и окна часов с десяти ночи были заперты.
Белые стали ломиться в дверь, разбили ее и ворвались. Стали меня спрашивать, где мой муж. Я отвечала, что уехал на мельницу. Белые грозили оружием, заставляли найти им женщин-большевичек. Но я отказалась, заявив им, что не знаю таких. Меня белые отвели в холодный сарай и там издевались.
Потом били плетьми. Натешившись, меня бросили полумертвую, но я пришла в себя и добралась ползком к детям. Дети все плакали, сидя на печке, звали маму. Все двери были раскрыты настежь.
Я уехала в село Урожайное. В Урожайном все время были бои. Белогвардейцы артиллерийским огнем бомбардировали красных камышанцев.
В камышах был брат мужа. Мой старший сынишка все ему носил харчи и белье. Белье надевали на него под спод и подвязывали, чтобы не было заметно. Если ловили того, кто камышанцам носил провизию, то его вешали около церкви.
Когда камышанцев разбили, в это время и мой сын был в камышах. Камышанцы отступили, и он тоже отступил. Были сильные морозы. Он не выдержал в пути, упал и замерз. Его нашли крестьяне, привезли и оттерли снегом. В настоящее время он коммунист, меньший — тоже коммунист, дочь — комсомолка.
Жить все время приходилось нелегально. Как-то в хату в Урожайном пришел вооруженный казак, а у ворот уже стояла подвода и десять человек верховых. Он мне сказал: «Собирайся с детьми и давай ключи». Я ключи им отдала, они все начали забирать и укладывать в подводу, привязали и корову к подводе, а меня с детьми под конвоем погнали в тюрьму. Восьмилетний мальчик убежал к соседу, маленькая девочка на руках прижалась к груди. У шестилетней девочки с ножки соскочил ботиночек и застрял в грязи, она мне говорит: «Мама, я потеряла ботиночек». Но конвоиры кричали: «Не разговаривай!» Ударив меня в спину прикладом и подталкивая девочку, подгоняли идти поскорее. Девочка, плача, шагала по грязи, одна ножка босая, спотыкалась, падала. Ночь была темная и холодная.
Пригнали в холодную хату к полковнику Иванову. Я сидела три дня. Потом все же отпустили. Когда на Урожайное наступали белые, то мы отступали за красными, на Величаевку. Соседи меня, больную тифом, взяли с собой. По нас строчили из пулеметов.
Беженцев была полна Величаевка. Меня завезли к каким-то людям. Я умирала, прижав девочку к груди. Кто-то стал мне ставить банки, и мне стало лучше. Мы в Величаевке были два дня. После вернулись обратно.
Второй раз мы отступили в Ребровку — двенадцать верст от Урожайного. В отступлении были три дня. Люди сидят около подвод. У лошадей постромки сняты, но хомуты и дышла наготове. Потом разведка донесла, что белых выгнали. Мы поехали обратно по домам. Когда Красная армия с Астрахани пришла в Урожайное, я с соседом вынесла булку хлеба с солью, и женщины с детьми бросились с радостью навстречу подъезжавшей кавалерии в красных башлыках. Это была красная разведка.
Муж тоже после приехал на неделю в гости. Я потом его провожала в город Святой крест, когда он отправился в свою часть в Баку. Проезжая мимо Мазайской экономии, он мне говорил: «Вот останусь живой, то, вернувшись, будем строить в экономии коммуну». В конце двадцатого года я добровольно записалась в коммуну. Муж еще не вернулся с фронта. Он пришел домой в двадцать третьем году. Я с детьми уже была коммунаркой в Мазайской экономии.