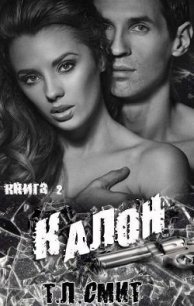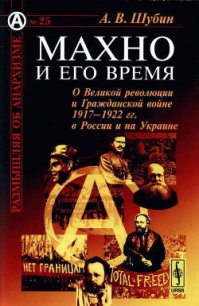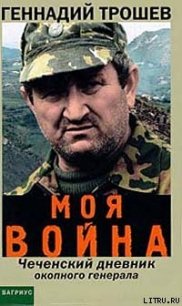Женщина в Гражданской войне (Эпизоды борьбы на Северном Кавказе в 1917-1920 гг.) - Шейко М. (книги регистрация онлайн txt) 📗
Это была очень большая экономия коммунаров. Было двадцать семейств, душ пятьдесят. В этой коммуне были исключительно семьи фронтовиков. Наши отцы-старики, мы, женщины и дети, инвалиды строили коммунальное хозяйство. Теперь наша коммуна перешла на колхозный строй. Все, что было, вспоминается как далекий кошмар. Какое счастье, что он не может повториться!
В. Матюшина
«ВОРОЖКА»
Я сама — Калужской губернии, Перемышленского уезда, крестьянка деревни Аграфеновка Курыницкой волости. До восемнадцатого года я жила в Тифлисе.
В восемнадцатом году седьмого февраля я приехала в город Святой крест Ставропольской губернии. Была у нас тогда Красная гвардия. Богачи селения Воронцово-Александрово стали организовывать свои белые отряды. Это происходило на моих глазах, около нашего двора. Стали они наступать на красных. Село большое, как город. Барыльников Алексей собрал народ, выгнал всех босиком. Они сразу на Гашунь наступили и выгнали красных. Стало как-то — ни красные, ни белые. Потом наши красные вновь пришли, и опять красные всех этих контрреволюционеров выгнали, богачи скрылись.
Держались мы до начала девятнадцатого года. Белые пришли к нам, аккурат было по-старому под самое крещенье. Тогда кубанские ко мне забежали, восемь человек, четвертого января по старому стилю. Я спрашиваю: «Как, ребятки?» Они говорят: «Плохо». Я их проводила пятого числа утром, нажарила котлет, дала сухарей. Только запомнила одного — Сережей звали.
Потом пришли к нам белые, утром рано шестого, на крещенье. Начали, конечно, перед церковью молиться богу. Богачи говорят: «Наши пришли, босяков выгнали». Посулили белые им ситцу дешевого дать сахару. Они молятся: «Вот наши пришли, сахар дают, чай». Я иду сзади с базара, говорю: «Хорошо, бабочки, мягко стелют, не пришлось бы жестко спать». Меня они звали московской, говорят: «Все вы такие».
Пробыли они немножко, до пасхи, обходились с миром. Тут под самую пасху начали они грабежами заниматься. Стали требовать хороших коней: не дадите — расстреляем.
За Прикумском были камыши. Человек двести партизан наших ушло туда, а восемнадцать остались в лесу. Мы, несколько человек, остались в деревне. Я в боях не участвовала — не могу оружием владеть. Решила помочь, чем сумею. Вперед всего взялась я ворожкой быть. Как человека нужда подтянет, он придет к ворожке гадать. Меня знали, и бабы шли ко мне. Не боялись.
Вижу, ко мне Бричка приходит со слезами. Я говорю: «Ты что?» — «Погадай мне». Я говорю ей: «Ворожка я замечательная. Знаю, что война, стало быть, знаю, как гадать». Говорю: «Бубновому королю предстояла смерть, но она от него отойдет». — «Миленькая, отойдет?» Я говорю: «Отойдет». Спрашиваю, в чем дело. «Да, знаешь, наших восемнадцать человек попало к белым, и ночью в расход будут пускать». Я говорю: «Ну как же, надо помочь, чтобы нам их выручить». Она: «Милочка, а как? Сейчас в лесу у нас есть восемнадцать человек партизан, но как я пойду? Тут меня все знают, спросят: куда идешь? И меня заберут». Я говорю: «Ну, ты мне расскажи, и я уж пойду».
Я оделась. На мне зеленое такое плюшевое плохонькое пальто. Взяла сумку, палку, как будто побираться пошла. Она мне рассказала, где завернуть, где повернуть.
Подхожу к этому месту. Они все сразу устремились, я кричу: «Своя, своя!» Подхожу: «Ну как, ребятки?» — «Так и так». Я говорю: «Наши партизаны попались, восемнадцать человек, их хотят в расход пустить». Они мне говорят: «А как же сделать? Умирать, так умирать всем вместе». Я говорю: «Конечно. Как-нибудь ночи дождемся, набег сделаем на тюрьму, освободим их». — «Куда же мы их поведем?» Я говорю: «Конечно, ко мне. Я человек приезжий, меня никто не знает». Про меня говорили, что я беженка, а я сама приехала.
Они пришли ко мне в двенадцать часов ночи. Я в этом году не садила огород, у меня сильный бурьян был, там яму выкопали, и в ней хорошо было скрываться. Я побежала по Красной улице, по другой, по третьей, добежала до речки Кумка. Над Кумкой пробежала — там ничего нет. «Ну, — говорю, — ребятки, давайте». Выскочили мы, побежали. Мурашко Федор Иванович выскочил первым. Дежурный офицер лежал на столе. Он его сейчас же ударил по голове. Тот упал. Часовой дремал. Мы его захватили, ни одного охранника не убили, только дежурного офицера.
Освободили. Идем впотьмах, тихонько. Мы им запекли в хлеб записку, что ночью мы их будем освобождать, они не должны были слать, Один, Степан, заснул. Когда мы их вывели, он думал спросонья, что мы их расстреливать ведем. Когда мы только отошли, он кинулся бежать. Мы не поняли, что он от нас выскочил, — думали, что кто-нибудь побежал из охранников сообщить, что мы их увели.
Мы убежали благополучно и отвели ребят в лес. Я, конечно, опять осталась в деревне. У меня было трое детишек. Ворожить я перестала.
После этого белые стали ходить, потом уже стали облавы делать. Под пасху написали: «Кому пасха будет, кому смерть. За восемнадцать человек мы повесим семьсот человек». И правильно. Семьсот человек повесили. Это были больше из крестьян-бедняков, которые ничем не были замешаны. Просто брали первого попавшегося бедняка, забирали и увозили. У нас был сосед Кульбака. Он имел маленькую лавчонку, а после этого получил себе полковника за эти расстрелы. Оказалось, что этот Кульбака вступил в белую Добровольческую армию, начал всех выдавать. Он был старым лавочником, всех знал. Вперед он был урядником, потом его полковником сделали.
Из наших освобожденных партизан только двое попало. Один Павлушка Литвинов и молодой партизан Стукало. Остальные все попали бедняки, наших очень мало было, а больше невинные пострадали.
Я как-то повстречалась с Кульбакой, мы рядом жили. Я говорю: «Иван Федорович, как-то неловко. Зачем невинных брать? Ну, бери уж красных, зачем беззащитных крестьян брать, они никогда не участвовали». — «Все равно они за нас не пойдут, а пойдут за эту босоту». — «А над собой погибели ты не ждешь?» — «Все равно мне милости не будет».
После этого много расстрелов было. Под пасху сделали облаву в лесу. Половили остальных партизан, не всех, конечно, а поймали в первый раз трех. Искололи их штыками. Они истекли все кровью. Потом их повели. Между казаков попал один — не помню его фамилии, — он служил у белых, а был красный. Казаки спрашивают, кто будет смотреть арестованных. А он говорит: «Поите коней, а я буду смотреть. Чего их смотреть, когда они избиты». Когда казаки отошли в сторону, он говорит: «Ну, ребята, бегите скорей, а то вам будет конец». Они кинулись бежать, он стреляет то вверх, то вбок, а в них не стреляет. Пока те сели на лошадей, они скрылись в одной печи черепичного завода. Печь была завалена, они заскочили туда в одном нижнем белье. Лежали там до самой ночи. Искали их до девяти часов вечера и не могли найти. Они, как залезли в эту печь, заложили отверстие, и их не было видно. Я туда ходила, но не знала, с какого края подойти. Потом, я вижу, заходит Федора Ивановича Мурашко жена, падает на меня со слезами: «Тетя Варя, пришли все раненые, раны загноились». Печка у меня не топлена, давай мы окна закрывать теплым одеялом, затопили печку, макухой масляной печку согрели. Я чем лечила? Свинцовой примочкой и цинковой мазью. Пришли они, я давай им перевязки делать. А у нас была накопана у речки яма в огороде. Там была солома насыпана, чтобы им можно было залезть. Конечно, если наводнение, их могло залить водой.
Повели их туда на другой день. Они окунули ноги раненые в воду, опять раны заболели. Она опять приходит: «Тетя, кричат они». Я говорю: «Деточка, днем их выводить нельзя. Уж вечером я полезу к ним в яму, перевяжу их». Взяли мы красное одеяло, я свечку зажгла, она отверстие закрыла одеялом, я полезла к ним перевязки делать. Две недели кормили их там и перевязки делали.
Через две недели они стали собираться ко мне в дом. Моя хатенка крошечная, как курничек, только на дворе у меня хорошо было.