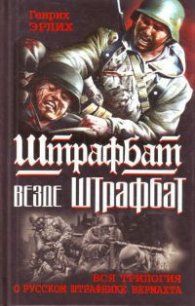Добровольцем в штрафбат. Бесова душа - Шишкин Евгений Васильевич (версия книг .TXT) 📗
В тот момент, когда он хотел было произнести эту заветную просьбу, Малышев поднялся со стула. Что-то еще упомянул про санаторий и удалился. Федор проводил его сердитым взглядом.
Продолжать лечение в госпитале, ехать куда-то в санаторий или пробираться до дому — об этом Федор задумывался вскользь, редко. Он также редко задумывался о письме домой. По какой-то странности, ему казалось, что матери про него все известно и все ею понято. Писать Ольге — опять же незачем. Он ей здесь исповедовался; она и так все время с ним…
Незаметно для себя, исподволь, день ото дня Федор все меньше и меньше думал о будущем, о тех доподлинных земных днях, которые могли продлить его судьбу и вплести ее в судьбу близких. Ему безбоязненно легко и утешительно думалось о внеземном будущем. И это запредельное будущее все больше и больше вытесняло действительное. Он становился как древний старик, который смирился с исчерпанностью жизни. Он не задумывался и даже не подозревал о том, что жизнь человека кончается тогда, когда он перестает мечтать о земном завтра.
14
Ночью Федор не спал. Ночь выдалась душной. Окно палаты было отворено настежь, но воздух и по темной поре оставался застойно-сухим, как в день.
Заполночь за окном зашелестел старый вяз. Подул ветер. Он не умерил духоты, но почувствовалось, что где-то собирается гроза. Скоро стал доноситься глухой рокот дальнего грома. В небе, краешек которого видел Федор в перспективе, за листвой старого вяза, розовато вспыхивали на толстых тучах отсветы молний. Сумрак палаты от этих сполохов почти не колебался, — сине-белесый сумрак короткой летней ночи.
Больше ждать нечего. Федор приподнял голову, пристально посмотрел на Зеленина. Кажется, спит. Но если даже не спит, вряд ли помешает. Зеленин почти безъязыкий и неподвижный, может лишь чего-то промычать или указать рукой, которая не потеряла координации движений. В любом случае он не наделает препятственного шуму.
Федор повернулся на бок, головой отбоднул подушку в сторону, зубами вытащил из-под матраса угол застеленной простыни. Слюной Федор размочил край простыни, разжевал его и перегрыз окаемный шов. Прижимая простынь культей и плечом, он стал зубами отрывать затверделую простроченную кромку. Материал рвался узкой подходящей лентой, но понемногу и трескуче. В гулкой ночной палате треск материала казался далеко слышим. После каждого рывка Федор выжидательно прислушивался и косился на рифленую муть дверного стекла, через которую из коридора струился припущенный «ночной» свет. Шагов из коридора не доносилось. Свет оттуда, не затененный фигурой дежурной медсестры, рассеянно лежал на полу палаты. Пока все было тихо. Лишь ветер редким потоком тревожил широкие, в зазубринах листы старого вяза. Федор старался подгадать так, чтобы под этот шум рвать простынь.
Дело продвигалось медленно. У Федора уставали челюсти, неловко и хлопотно было выпрастывать из-под себя простынь. Он покрывался испариной и тяжело дышал.
Когда лента вышла готова, Федор в нескольких местах испытал ее на разрыв. Усеченной рукой прижимал один конец к постели, другой — дергал зубами. Должна выдержать. Хоть и узкая, но со швом. В самый раз. Да ведь и он не тяжел — без рук, без ног.
Теперь настало самое трудное: завязать на ленте узлы. Федор ерзал на животе, обливался потом. Перемогая боль, тыкался подбородком в подушку. Языком и зубами он загонял один конец под другой. И с первого, и со второго раза нужного не получилось. Лента сбивалась, уволилась не по месту. Федор заново распрямлял ее, ухватывал зубами и, пыхтя, одолевал необходимый закрут.
Он так одержимо увлекся узлом, что упустил из виду, как за туманным стеклом двери, на фоне тусклого коридорного света, возникла фигура. В палату неожиданно вошла медсестра. Федор завозился на кровати, подбородком и культей сгреб под себя ленту и весь сжался, насторожился слухом, зрением, каждой мышцею. Сердце оглушительно билось, оно даже тукало в послеоперационных швах оставшихся рук и ног. Медсестра догадалась, что он не спит: застигнутые ею движения Федора были импульсивны и резки. Она подошла к нему ближе.
— Вам плохо, Завьялов?
— Нет, — сдавленно произнес Федор и сжался еще сильнее, будто сейчас начнется «шмон». Больше всего он боялся, что конец ленты свисает с постели и предательски виден сестре.
— Вам не жарко? Хотите, я уберу с вас одеяло? Или принесу вам холодной воды?
— Нет. Не надо. Мне все нормально.
Медсестра несколько времени постояла возле его кровати, как бы раздумывая, что ему предложить, или дожидаясь от него какой-либо просьбы. Затем она перешла к Зеленину, склонилась над ним, оглядела и не спеша подалась в коридор. Силуэт за стеклом двери исчез. Федор облегченно вздохнул, промокнул о наволочку пот с лица и продолжил занятие.
Скоро петля была приготовлена. Теперь оставалось свободный конец ленты накрепко привязать к железной поперечине кроватной спинки. Привязать с тем расчетом длины, чтобы петля излишне не провисала к полу и не могла смазать досадной ошибкой все затеянное. Все то, что было взвешено и решено окончательно.
С узлом к поперечине тоже пришлось повозиться. Федор действовал теперь уже осмотрительнее, все время краем глаза держал дверной прямоугольник стекла. Потом он еще раз все основательно проверил: длину ленты и крепость соединения, подтянул для страховки узлы на петле.
Когда все было налажено, когда кадыком ощущалась слегка влажная от слюны и немного лохматистая удавка на шее, Федор лег на спину и глубоко вздохнул.
К тому времени ветер за окном притих. Листья старого вяза безмолвно висели в сумерках. По листьям тонко, едва уловимо скользил свет близкого раннего утра. Гроза так и не собралась. Видать, прошла где-то стороной. Отдаленное громыхание грома пропало. Вспышки зарниц в облаках погасли.
Теперь, когда был близок конец — нет, не смерть, не полное исчезновение и тлен, а лишь конец земного пути и страдания, — Федору хотелось спокойно подумать о самом главном. Для чего состоялась его жизнь? Неужели впустую он отшагал беспечную юность, перетерпел голодную маету лагеря, перенес долгое кровопролитие войны и отмучился короткой участью калеки? В чем значение и толк его Жизни? Может быть, в том, чтобы, пройдя горький путь, навсегда унести из мира часть людской боли? Чтобы никогда больше другим людям не пришлось испытать ее? Лучше уж тогда взвалить бы на себя побольше этой человечьей боли, чтобы людям тут осталось побольше света! А может быть, уходя и лишая мир этой боли, он освобождает место дня кого-то другого, кому тоже суждено пройти горький путь?
Обо всем этом Федор думал не словами, за которыми всегда есть понятие. Он угадывал смысл всех неразрешимых вопросов чувствами. И как обычно, не находил и не мог найти ответов. А теперь уже и времени для этого не хватало. Стоило поторапливаться. Возможно, медсестра опять станет обходить палаты и заглянет сюда.
Он наметил себе примерно еще три минуты. Нужно было проститься с остающимися жить. Федор мысленно обратился к матери: «Прости, мама. Я виноват перед тобой. Я обманул тебя, когда обещал вернуться. Я уже не вернусь…» Он мысленно обнял Ольгу, недостижимую здесь, на земле. Но которую будет очень ждать… Он прижался к ее лицу своей щекой, поглядел ей в такие знакомые вечные глаза и нашел в себе силы улыбнуться. Сквозь выступившие слезы, сквозь умилительную горечь слез в горле он тихо промолвил ей на прощание: «Мы еще встретимся. Мы обязательно встретимся, Оленька. Теперь мне пришло время тебя ждать. Я буду ждать. Хоть сто лет…»
Потом Федор приподнял голову. Ему хотелось сейчас сказать что-нибудь вслух — кому угодно, хотя бы спящему Зеленину; просто сказать любые слова и услышать свой голос.
— Спи… Спи, браток Ты у нас настоящий победитель, — произнес Федор безответному Зеленину.
Отмеренные минуты, похоже, истекли. Они пролетели так же быстро, как вся его короткая жизнь, — жизнь, которая стремительно пронизывала дни и ночи, не давая опамятоваться, сближая и разлучая с десятками людей, которые что-то отдавали ему или что-то принимали у него. Теперь все они стали ему очень близки и понятны, словно повязка на глазах при игре в жмурки вдруг спала и все остались в отчетливом положении…